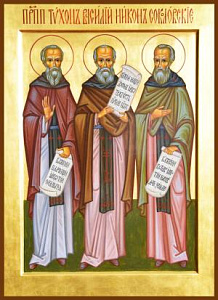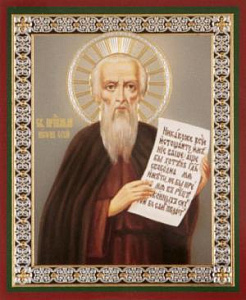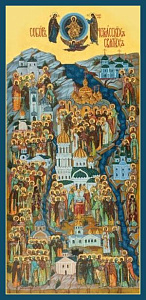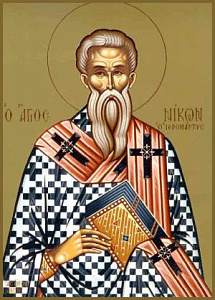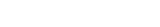-
 РАСПРОДАЖА
РАСПРОДАЖА
- Уцененные товары
- Аналои
- Архиерейские и монашеские принадлежности
- Браслеты
- Вентиляция храмов
- Венцы венчальные
- Вертепы рождественские
- Водосвятные баки, чаши, кропила
- Гробницы под Плащаницу
- Дарохранительницы и дароносицы
- Двери храмовые
- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы
- Евхаристические наборы и принадлежности
- Жертвенники
- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы
- Игры православные. Наборы для творчества
- Иконостасы
- Иконы
- Кадила, кадильницы
- Киоты
- Книги православные. Печатная продукция
- Ковры, ковровые покрытия
- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.
- Кожгалантерея
- Колокола
- Кольца, перстни
- Косметика
- Крестики нательные
- Кресты напрестольные, требные, аналойные
- Кресты-голгофы напольные для храма
- Кресты наперсные, цепи
- Крестильные ящики для священника
- Купели для крещения
- Купола, кресты
- Ладан
- Лампады и принадлежности
- Литийные (всенощные) блюда
- Масло
- Образки, нательные иконки
- Облачения для священнослужителей
- Облачения и принадлежности храмовые
- Панагии
- Паникадила. Хоросы. Бра
- Панихидные столы и крышки
- Плащаницы
- Подарочные сертификаты ORTOX
- Подсвечники
- Подставки церковные, столы
- Полки для икон, домашние иконостасы
- Пошивочная продукция
- Престолы. Облачения на престол
- Принадлежности для отпевания и погребения
- Продукты питания
- Просфорные принадлежности
- Роспись храмов
- Реставрация церковной утвари
- Свечи
- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы
- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы
- Семисвечники
- Сени
- Средства для ухода за церковной утварью
- Стрючицы. Кисточки для помазания
- Сувениры
- Требные чемоданы и сумки
- Уголь кадильный
- Утварь по старинным эскизам
- Утварь в греческих церковных традициях
- Футляры и подарочная упаковка
- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды
- Цепочки, шнуры, гайтаны
- Церковные сосуды
- Часы
- Четки православные
- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона
- Ювелирные изделия
- Ящики для пожертвований
Преподобный Никон Новгородский
Но Промыслу угодно было лишить Никиту и этой отрады: Ксения умерла. Никита взят был обратно в дом отца и сделался опять предметом злости и жестокости своей мачехи. Грубая брань, побои и всякого рода истязания всюду преследовали Никиту. Правда, в доме были лица, которые жалели его и заботились о нем: бабка его и отец сам старались и увещаниями, и угрозами, и даже побоями остановить мачеху от зверского обращения с пасынком; но после всякого подобного внушения злоба ее к Никите возрастала все более и более. Отец по нуждам домашним нередко должен был отлучаться из дома и надолго; и тогда злая его жена поступала с Никитою, как хотела, «множицею даже до крове не милостивно бияше».
Неоднократно он подвергался опасности даже лишиться жизни от рук мачехи. Раз ребенок Никита, томимый голодом, покусился сам идти в погреб взять пищи, приготовленной мачехою для своих детей. Мачеха, увидев его идущим к погребу, быстро подбежала и так сильно ударила, что Никита упал в погреб и едва там не лишился жизни. Другой случай: однажды зимою Никита, страдая от холода, и как не имеющий за собою призора, вошел в печь и там, обогревшись, заснул. Мачеха, увидев его спящим в печи, умыслила злодейски лишить его жизни: поспешно набрала дров и, заложив ими спящего ребенка, как будто бы по неведению, зажгла их. Никита, проснувшись от дыма и жара, закричал неистовым голосом, прося помощи. На крик прибежала бабка и, выметав зажженные дрова, еле живого вытащила его из печи. Когда же возвращался домой отец, бабка жаловалась на жестокости мачехи к Никите, но мачеха каждый раз оправдывалась клеветами на него. Наконец, злоба мачехи к Никите дошла до того, что она решилась извести его уже не побоями, а отравою. Задумав такой адский поступок, она приготовила для него пищу с ядом и, притворившись ласковою, дала ему этой пищи. Никита, как ребенок, не мог подозревать злого против него умысла и с охотою начал есть предложенную пищу; но вдруг почувствовал от этой яди что-то необычайное – «горесть и скорбь в гортани и животе» – и, оставив пищу, начал пить воду и этим только, по милости Божией, спасся от смерти.
В таких-то скорбях протекло детство Никиты, будущего великого светильника, в родительском доме. Когда Никита достиг отроческого возраста, отец отдал его учиться грамоте, к чему он и сам имел особенную охоту. По обычаю тогдашнего времени, обучение Никиты началось чтением Слова Божия, которому всецело отдалась юная и скорбная душа отрока. Никита почувствовал всю сладость этого занятия и, чтобы никогда не оставлять его, решился посвятить себя иноческой жизни в какой-либо уединенной обители. Любознательный от природы и щедро наделенный счастливыми дарованиями, Никита скоро оказал быстрые успехи в чтении и письме. Тогда отец его, побуждаемый естественною родительскою любовью, взял его обратно домой и велел ему оставаться здесь навсегда. Никита покорился воле отца, но душа его, жаждавшая пустынных подвигов, рвалась в пустыню, чтобы там безмятежно услаждаться законом Божиим день и ночь. С глубокой скорбью стал он замечать, как мало-помалу забывается им грамота и закрывается от него сокровищница Божественной мудрости. Голос сердца звал его в уединение, отец не соглашался на желание, и Никита решился тайно оставить дом родительский, чтобы всего себя посвятить на служение Богу в безмятежной обители. Улучив удобное время, Никита взял из дома отца несколько денег и отправился в монастырь Макария Желтоводского, в котором тогда славился добродетелями один благочестивый старец Анания.
Придя к старцу, Никита стал умолять его походатайствовать пред игуменом и братиею о принятии его в монастырь и о позволении жить вместе с клириками. Игумен, по совету братии, принял Никиту. Получив желаемое, он усердно возблагодарил Господа, что нашел утешение своей благочестивой душе. В это-то именно время начали открываться в Никите начатки его предприимчивого, твердого и строгого характера. Чтобы не пропустить ни одной церковной службы и поспевать в церковь к началу богослужения, но в то же время сознавая слабость своего возраста и боясь проспать время утреннего богослужения, Никита в летнее время ложился спать на кладе благовестного колокола. Таким образом, первый звук благовеста уже пробуждал его на утреннее славословие Господа, и отрок спешил в храм на молитву. И чем менее давал себе послабления Никита в естественных потребностях возраста, тем более и более разгоралась в юном сердце его любовь к Богу и Божественному Писанию. Так Промысл Божий готовил Никиту к будущему великому служению; ему было тогда 12 лет.
Сохранились два замечательных рассказа об отрочестве Никиты, когда он был послушником в Желтоводском монастыре, предуказывавшие будущее его высокое назначение: он ходил иногда в близлежащее село Кириково к учительному и благочестивому священнику Анании, чтобы послушать его духовной беседы, и в одно из таковых посещений попросил у него себе рясы. На эту просьбу Анания ответил: «Юноша избранный, не прогневайся на меня: ты, по благодати Св. Духа, будешь носить рясы лучше этой; будешь ты в великом чине – патриархом». В другой раз, когда сверстники Никиты отправились «для прогула в ину обитель», взяли с собою и его. Дорогою они зашли к некоему татарину, который любил принимать странных, и провели у него ночь, так как день уже склонился к вечеру. Товарищи Никиты, зная, что татарин занимается гаданьем, попросили его сказать им будущую их судьбу. Тот посмотрел им на руки и сказал каждому по своему гаданию. Когда же дошла очередь до Никиты, то он, пристально посмотрев на него, спросил: «Какого ты роду?» Никита отвечал, что он простолюдин. Потом посмотрел в руки Никиты и с ужасом воскликнул: «Никито! Почто тако просто ходиши, блюдися и ходи опасно, яко ты будеши великий государь царству Российскому, либо патриарх» – и поклонился ему до земли. Отрок Никита не придал никакого значения словам татарина и, возвратившись в обитель, паче прежнего прилежал церкви Божией и чтению Слова Божия. Между тем отец Никиты, долго разыскивая сына, получил наконец весть, что сын его живет в Макарьевской пустыни. Не желая оставлять его в монастыре, Мина упросил одного из своих приятелей уговорить Никиту возвратиться домой. Долго никакие убеждения не могли поколебать решимости Никиты остаться навсегда в мирной обители. Тогда посланный прибегнул к хитрости: он сказал, что отец его и бабка находятся на смертном одре и если он не поспешит к ним, то уже не увидит их более в этом мире. Никита прослезился; чувство сыновней любви, желание застать в живых самых близких, дорогих для его сердца людей взяли верх над чувством привязанности к мирной обители, где безмятежно провел он пять лет.
По прибытии домой Никита увидел обман, но покорился воле отца. Впрочем, те, которые хотели обмануть его, изрекли истину, не ведая того сами. Отец Никиты и бабка вскоре же, по возвращении его домой, тяжко заболели и скончались. Отдав последний долг усопшим и сотворив должное поминовение по душам их, Никита опять хотел удалиться в монастырь, но родственники не допустили исполниться благочестивому его желанию и настояли, чтобы он вступил в брак. Однако удовольствия мира и народное веселье ничуть не могли привязать Никиту к сельской жизни. Он постоянно сожалел о том, что уклонился от раз избранного им пути спасения, и томился духом. Сердце его рвалось в уединение и тосковало по умилительным напевам священных песен. Прошел год в такой томительной тоске, наконец Никита решился оставить свою родину и отправился искать себе место причетника при какой-нибудь церкви, чтобы иметь утешение наслаждаться Божественною службою. Желание его скоро исполнилось. Жители одного ближайшего к его родине села, хорошо зная добрую жизнь Никиты, предложили ему занять при их церкви должность чтеца. Никита охотно согласился на это и спустя год теми же прихожанами был избран на место почившего их пастыря, где и пробыл еще два года в сане священника.
Молва о пастырских добродетелях и благочестивой жизни священника Никиты распространилась далеко за пределы его прихода так, что о нем знали уже в Москве. И вот однажды явились к нему московские купцы и предложили переместиться в столицу. Священник Никита, желавший более простора и деятельности для своей мощной души и светлого ума и более подвигов благочестия для сердца, согласился на предложение купцов и переместился в столицу. Это было в 1627 году на 22-м году жизни Никиты. Прожив здесь некоторое время и видя суету мира сего и непостоянство, избранник Божий Никита более прежнего возгорелся желанием к строгим иноческим подвигам в тишине уединенной келии. В самом супружестве он видел неблаговоление Божие.
Прошло 10 лет супружеской его жизни; Никита имел троих детей, и они умерли еще в младенчестве. Наконец Никита решился однажды навсегда прервать свои связи с миром, склонил к тому же и свою жену. Поместив ее в московский женский Алексеевский монастырь, он устроил для нее там келию, дал за нее вклад на одежду и пропитание, а сам избрал местом для своих подвигов пустынный Анзерский скит на Белом море, вблизи Соловецкого острова. Анзерским скитом в то время управлял строгий подвижник Елеазар. К нему-то обратился Никита со слезным прошением принять его в число пустынной братии. Старец, видя неотступные просьбы, позволил поселиться в пустыни. Никита с радостью возблагодарил Господа Бога, устроившего ему путь спасения, и теперь всеми силами души и тела отдался предлежащему ему подвигу. Никите тогда было 30 лет.
Слишком строг был устав Анзерского скита. Пустынники, в числе 12-ти, жили в расстоянии двух поприщ друг от друга и от церкви; хижины их были разбросаны в разных местах по всему пространству острова и не были обнесены никакой оградой. Каждый инок трудился и молился отдельно в своей келии, и не виделись они друг с другом в продолжение всей недели. «Питание их бе вящшая часть от государския милостыни, всякому брату на каждо лето по три четверти малых во отдаточную меру муки жаловаху, к тому же от ловцев подаянием милостыни и от рыб подаваху, и на том же острове от обретающихся ягод и всяким овощием питахуся». Когда же наступал вечер субботы или навечерие какого-либо праздника, все отшельники собирались в общий храм и проводили в нем ночь в богослужении, молитве и чтении священных книг. Сверх того, что у них вычитывалось в это время и было пето все, положенное по уставу для вечерни и для всенощного бдения, они читали еще все двадцать кафизм псалтири и толкование рядового, воскресного или праздничного Евангелия. С наступлением утра совершалась Божественная литургия, за которою все отшельники причащались св. Христовых Тайн, и затем, дав друг другу взаимное целование, безмолвно расходились в свои уединенные келии до следующей субботы или до навечерия праздника, если таковой встречался на седмице.
В своем уединении каждый вычитывал ежедневное церковное богослужение и, кроме того, акафисты Спасителю и Божией Матери с канонами сладчайшему Иисусу, Богородице и Ангелу Хранителю, молитвы утренние и вечерние . Никита все это исполнял в точности. В пустынной келии, в часы глубокой ночи, любил он мыслию и сердцем переноситься туда, где обитает Свет Неприступный. Но жизнь его превосходила строгие уставы скита. Он всецело отдался необычайному посту и воздержанию; к обычному уставу скита ежедневно приложил прочитывать все 20 кафизм псалтири и полагать 1000 поклонов и почти не давал «сна очима своима, ни дремания веждома своима». «Ненавидяй добра диавол, – замечает жизнеописатель, – видя не леностно работающа Господу, нача нань велию брань воздвизати. Хотящу ему мало от труда почити, абие нечистии дуси приходяще, нань нападаху, давляху его и иныи пакости деяху ему, овыя же в страшилища обращахуся и разныя мечты ему творяху». Видя такую бесовскую брань, Никита к правилу своему приложил еще читать молитвы от обуревания злых духов, каждодневно святил воду и этою св. водою кропил всю келию и окрест келии.
Вооружившись пламенною молитвою и строгим постом, Никита крепко стоял на страже своего сердца, мужественно отражал от него все греховные помыслы и чувства и жил в Боге и с Богом. Но благодатный мир души Никиты был возмущен скорбной вестью из Москвы. Жена его, остававшаяся в монастыре, вдруг задумала выйти из оного и вступить во второй брак, о чем и сообщили ему родственники. Смущенный Никита, возложив все упование на небесную помощь, пал в своей келии пред Господом в слезах и молил милосердие Его о спасении погибающей женщины и обращении ее от такого злого начинания к покаянию; в то же время отписал и родственникам, чтобы они своими увещаниями удержали ее от покушения оставить монастырь и склонили к пострижению.
Пламенная молитва Никиты и увещания родственников не остались без вожделенного плода: жена Никиты, устыдясь своего намерения и вспомнив свое обещание, поспешила принять иноческий образ и вскоре же переселилась в вечность. Теперь уже ничто земное более не тяготело над Никитою; он с полной свободой всем существом погрузился в молитву. Преподобный Елеазар, видя необычайные его подвиги, постриг его в монашество с именем Никона. Это было на 31 году его жизни (в 1636 г.). Новый инок, всецело преданный Богу, казалось, недоступен был ни для каких искушений печали житейской.
Но Провидению угодно было как бы заранее открыть Никону будущую печальную участь его с ее причинами и горькими последствиями. Преподобный Елеазар, устроивая Анзерский скит, вознамерился вместо существовавшей небольшой деревянной церкви построить каменный, более просторный храм. Но, не имея собственных средств на предполагаемую постройку, он отправился в Москву бить челом государю Михаилу Феодоровичу, благородным боярам и благочестивым разных чинов людям о пособии; с собою взял он и Никона. В Москве знали о высокой подвижнической их жизни, приняли почтительно и охотно жертвовали им на церковное строение, так что всех подаяний собрано было до 500 рублей.
Возвратившись в скит, Елеазар положил эти деньги в церковное казнохранилище. Прошло три года: о постройке храма и речи не было. Ревностный и решительный Никон осмелился напомнить своему настоятелю о необходимости начать постройку церкви. Елеазар не обратил на это внимания. Никон предлагал отдать, по крайней мере, деньги на хранение в Соловецкий монастырь, чтобы, как говорил он, не узнали о них разбойники и не убили их самих. Предложение осталось также без успеха. Никон наконец не вытерпел невнимания к его разумным предложениям и раз даже осмелился укорить настоятеля и братию в сребролюбии. Старец Елеазар разгневался на это и сделал Никону строгий выговор за непослушание и вмешательство не в свое дело. Со своей стороны и Никон огорчился на строгое замечание старца. Никон не мог равнодушно переносить того, что все его хлопоты о пользе скита не только принимаются с пренебрежением, но и возбуждают против него гнев настоятеля, даже обвинение во вмешательстве не в свое дело.
Среди скорбных размышлений о настоящем своем положении Никон раз видел замечательный сон: ему представилось, что он видит сосуд, наполнений до верха какими-то семенами. «Это мера твоих трудов наполнена», – сказал ему незнакомый голос. Никон подошел ближе к сосуду рассмотреть семена, но при этом опрокинул сосуд, и семена рассыпались. Он начал было снова собирать семена и собрал их, но мера не наполнилась так, как прежде была. Не было ли это вразумлением Никону, чтобы он не засматривался на свои заслуги? Как в настоящем случае, так и в последующей печальной участи Никона много причинил ему горя и вреда его достоинствам и трудам открытый и твердый до непоколебимости характер его. Время шло, неприязненные отношения к Никону старца и братии не изменялись, но он все еще не решался расстаться с дорогим для сердца его анзерским безмолвием и все выжидал, не утолится ли гнев на него старца Елеазара. Но ожидания были напрасны. Старец Елеазар, считая себя оскорбленным от Никона, таким воспылал на него гневом, что не хотел его и видеть. Тогда Никон решился дать место гневу и удалиться со святого острова, где провел около четырех лет в пустынных подвигах.
С одним благочестивым поселянином в небольшой ладье он направился в Кожеозерскую пустынь, которая славилась тогда своими подвижниками не менее Анзера. На море поднялась страшная буря, и лодку с пловцами, чудесно спасшимися от потопления, прибило волнами к берегам острова Кия. Возблагодарив Господа от всей души за свое спасение от неминуемой гибели, Никон водрузил крест на том месте, где вышел на берег, и дал обет построить здесь монастырь или хотя малую церковь, если Господь благословит его дальнейшую иноческую жизнь, что он впоследствии и исполнил, устроив в 1656 г. Крестный монастырь. Когда буря утихла, Никон со своим спутником пустился в дальнейший путь. Достигнув устья Онеги, Никон отпустил поселянина, а сам отправился вверх по берегу реки. Дорогою он почувствовал сильный голод, а пищи между тем никакой не имел. Истомленный усталостью и голодом, Никон заметил на другом берегу реки большую деревню и надеялся найти в ней отдых и подкрепление сил, но ни один из поселян не хотел подать ему лодки. Наконец сжалилась над ним одна бедная вдова и велела своему сыну перевезти путника. «Сам Господь да воздаст вам за оказанную мне любовь», – сказал своим благодетелям Никон по выходе на берег. Пройдя всю деревню, он ни в одном доме не нашел себе пристанища. Та же бедная и богобоязненная вдова, видя, что Никон «ни от одного из жителей не получи милости», с любовью приняла его в дом свой, предложила ему пищу и ночлег. Никон тем более ценил усердие к нему бедной вдовы, что в этой стране был в это время голод, и тем более болезновал душою, что не имел у себя ничего, чем бы мог поблагодарить ее за ее доброту. Зато впоследствии щедро отплатил ей! Когда деревня эта была приписана к Крестному монастырю, Никон навсегда освободил вдову и ее детей от платежа податей.
На третий после того день Никон достиг Кожеозерской пустыни и умолял игумена и братию принять его в обитель. Но так как здесь без вклада никого не принимали, «то ему, не имеющу, что вкладу дати, отдаде и последняя своих трудов – две книги, полуустав да канонник. Они же вземше те книги, с собою тогда жити его прияша. В ней же живя, он литургисаше». Устав Кожеозерской пустыни был общежительный и не удовлетворял стремлениям Никона. Душа его искала высших, совершеннейших духовных подвигов и томилась сожалением о блаженном состоянии в Анзере. Поэтому он стал умолять игумена и братию, чтобы ему позволили удалиться на некий особый остров, «во еже бы ему тамо устроити келлию и прежде приятое правило удобно было совершати». Настоятель и братия благословили его святое желание.
Никону понравился один совершенно пустынный остров на том же озере; на нем он поселился, «устроив келлию своима рукама, и по молитве поделие имяше ловление рыбы». Один Бог был свидетелем его подвигов. Правилом жизни его и здесь был анзерский устав, и только в воскресные и праздничные дни приходил из своей пустыни в обитель, чтобы участвовать с братиею в общественном богослужении. Недолго, впрочем, подвизался Никон здесь в отшельническом уединении: спустя немного времени после того как Никон удалился на безмолвие, преставился от сей жизни настоятель Кожеозерской пустыни. Братия, не видя в среде своей инока, который бы мог лучше Никона руководить и имел бы право править Христово стадо, и в то же время вполне сознавая, что Никон превосходит всех их разумом и добродетелями, единодушно пожелали иметь его своим игуменом. Долго Никон не соглашался принять на себя настоятельство; «но братия, неотступно молиша его, чтобы он, ради любве Христовой, сотворил с ними милость и оставил свое уединение».
Побежденный мольбами братии, Никон с заручною челобитною отправился в Новгород и здесь принял поставление в игумена Кожеозерской пустыни от митрополита Аффония. Это было в 1643 г. на 38 году жизни Никона. Предание гласит, что прозорливый старец Аффоний, возведя Никона на сан игумена, тут же предсказал ему, что он будет его преемником. Возвратясь в пустыню, игумен Никон показал в себе для братии совершенный образец иноческих подвигов. Вместе с братиею он молился, вместе вкушал трапезу, от Св. Писания поучал посту, воздержанию, послушанию, целомудрию. «Просто рещи, – говорит жизнеописатель его, – всякой добродетели, и бысть им, яко отец чадом; еще же труды к трудом прилагая, сам на братию рыбу ловяше и сам оную пред них представляше». Три года протекло в таких неослабных трудах и подвигах. Но вот наступало время, когда этому яркому светильнику христианских добродетелей надлежало стать на высоком свещнике всероссийской Церкви, чтобы проливать свет не на одно уединение обителей, но и на всю отечественную Церковь.
В 1646 году Никон, неких ради нужд пустынных, отправился в Москву. Здесь уже давно носилась громкая молва о строгой подвижнической жизни Никона, о его добродетелях, высоком уме, отличном знании Слова Божия и о его молитве, и достигла она слуха царя Алексея Михайловича. Юный государь, плененный такой громкой славой Кожеозерского игумена, повелел представить его к себе. Величественная осанка, открытый и смелый вид строгого подвижника, сила и теплота слова его, гибкость, дальновидность и проницательность ума, глубокое знание Слова Божия и церковных правил и сердечная ревность о славе Божией и пользе ближних, временной и вечной, которые во всем блеске высказались в беседе с царем, так привязали юное сердце царя к пустыннику Никону, что с той минуты душа царя, так сказать, «спряжеся» с душою Никона.
Никон стал другом и наперсником царя. А чтобы не расставаться с излюбленным подвижником, царь повелел патриарху Иосифу посвятить Никона в сан архимандрита московского Новоспасского монастыря. Этот сан и пребывание в столице открыли обширное поприще для дарований и деятельности Никона, а необычайная близость царская отличала его перед всеми. Немного сохранилось известий о заслугах Никона для Церкви и Отечества, пока он был в сане архимандрита; но и эти немногие известия очень много говорят, что вся его деятельность была проникнута ревностию к славе Божией и благу ближних. Он великолепно устроил вверенный ему монастырь, склонив и самого царя к украшению обители, где покоились его предки. В образе жизни иноков он произвел решительную перемену: в столичный монастырь перенес ту же строгость, какою отличались Анзерская и Кожеозерская пустыни, которые были первоначальной школой для Никона. Наконец, испросил у царя подтверждение прав Новоспасскому монастырю на пожалованные вотчины. Но важнейшей его заботой и заслугой в это время было ходатайство перед царем за бедных вдов и сирот, искавших правосудия у царя.
Царь хотел, сколько возможно, чаще иметь свидание со своим другом и потому повелел приезжать Никону в каждый пяток к утреннему богослужению в придворную церковь. Здесь, по окончании богослужения, Никон вел задушевные, назидательные беседы с царем о предметах веры и благочестия. Царь с любовью внимал сильным и одушевленным речам, и чем долее продолжалось знакомство его с Никоном, тем более открывались необыкновенные душевные дарования Новоспасского архимандрита и тем крепче они связывались взаимною любовью. Никон не хотел один пользоваться таким счастьем и дружбой; он как нельзя лучше употребил их в пользу ближних. Сам испытав лишения и разного рода скорби и гонения, Никон искренно сочувствовал бедным, несчастным, гонимым людской неправдой.
В беседах своих с царем он обращал милостивый взор его на несчастных вдов и сирот, притесняемых несправедливостями сильных земли, и умолял царя о правосудии. Царю весьма было угодно тщание Никона о правде и попечение о бедных, и он поручил ему принимать челобитные от всех просителей и в урочное время представлять себе. В Москве скоро стало известно о таком близком к царю и сильном перед ним благодетеле вдовиц и сирот. Со всех сторон начали стекаться к Никону в монастырь несчастные, искавшие защиты правосудия; а те, которые почему-либо не могли придти в монастырь, в урочный день и час дожидали его на пути к царю; здесь останавливали своего покровителя и, подав ему челобитную, просили его ходатайства перед царем. Кроткий, добродетельный и заботливый о благе подданных, царь сразу после утрени, не выходя из церкви, выслушивал все челобитные, привезенные Никоном, и тут же повелевал дьяку писать на них милостивые решения и отдавал их обратно Никону. Со слезами радости встречали обидимые и скорбные своего защитника и покровителя, когда он выходил от царя. Так было в продолжение трех лет.
Прошло три года неизменной и самой искренней дружбы царя с Никоном. В это время промыслу Божию угодно было воззвать Никона на новое обширнейшее поприще для его подвигов ко благу Церкви и Отечества. Новгородский митрополит Аффоний, возводивший Никона в игумена Кожеозерской пустыни, прибыв в Москву в 1649 г., просил государя и патриарха отпустить его по старости на безмолвие в Хутынский монастырь. Царь и патриарх, уважая добродетели маститого старца-святителя, разрешили ему провести остаток дней в безмолвии в обители в звании схимника. Нужен был теперь достойный преемник Аффонию. Выбор патриарха и всего священного Собора пал на Никона. Царь, желая почтить своего друга саном архипастыря, вполне согласился с избранием Собора. И вот 9 марта 1649 г. (7157) Никон был торжественно хиротонисан в сан митрополита Новгородского и Великолуцкого, при служении двух патриархов – Иерусалимского Паисия и всероссийского Иосифа.
В Новгород прибыл Никон 24 марта, накануне праздника Благовещения Пресвятыя Богородицы и самого светлого дня. Самый день вступления Никона на паству как бы предуказывал уже будущие великие его заслуги для отечественной Церкви. Исполненный пламенной ревности о славе Божией и о спасении врученной паствы, он в этот же день вознес в древнем храме Св. Софии теплую молитву о благочестивейшем царе и врученных ему людях и поспешил в Хутынь, чтобы испросить себе благословения от блаженного предместника своего, схимника Аффония, подвизавшегося в безмолвии. Старец-святитель с радостью встретил своего преемника, о котором знал уже прежде, что это муж креплий его, и, провидя в нем великое светило для всей отечественной церкви, не хотел первый преподать ему благословения. «Ты мя благослови», – отвечал он Никону на просьбу его о благословении. В свою очередь и Никон не считал себя достойным благословить своего славного предшественника. «И тако на мнозе бывшу прению между ними», так как ни один не решался первый благословить другого, «наконец Аффоний пророчески» сказал Никону: «Благослови мя, патриарше Никоне!» Никон, думая, что старец, слабый зрением и памятью, ошибся, смиренно ответил ему: «Ни, отче святый, аз грешный митрополит, а не патриарх». «Будешь патриарх, благослови мя», – с твердостью произнес прозорливый старец. Никон, видя, что «не отрещися», уступил настоятельному и непреклонному требованию блаженного старца и благословил; после сего и Аффоний воздвиг старческие руки над Никоном и знамением креста Господня низвел свыше благословение на него и на будущее высокое его служение Церкви и государству: «и тако седоша оба и глаголаша друг другу мирная и душеполезная словеса».
Заслуживает особенного внимания отзыв о Никоне Иерусалимского патриарха Паисия, который, находясь в Москве, встречал Никона в сане архимандрита и который потом участвовал в хиротонии его в митрополита. В письме своем пред наступлением Великого поста, поданном в посольский приказ на имя государя, Паисий под самый конец присовокупил: «Находясь в прошедшие дни у вашей милости, я говорил с преподобным архимандритом Спасским Никоном, и полюбилась мне беседа его. Он муж благоговейный, и досужий, и преданный вашему царскому величеству. Прошу, да будет он иметь свободу приходить к нам для собеседования на досуге, без запрещения вашего величества». В другом письме на имя государя, посланном в посольский приказ уже по рукоположении Никона в архиерейский сан, Паисий выражается: «Прославляю благодать Божию, которою просветил Дух Святый, чтобы избрать и возвести на св. престол митрополии Новгородской такого честнаго мужа и преподобнаго священноинока, господина архимандрита Никона. Он достоин утверждать церковь Христову и пасти словесныя Христовы овцы... Я, богомолец ваш, очень тому обрадовался. И если будет позволение вашего царскаго величества, то и мы от благодати, что имеем от святых мест, подарим ему одну мантию». Государь, верно, дал позволение, потому что Паисий действительно подарил Никону мантию при своей грамоте (от 5 мая) с червлеными источниками. «Видя и мы его добродетель, – писал патриарх, – достойна не имуще в дар ему воздати, подали есмы ему сию власть, подали ему мантию, приложения червония, и благословили есмы его, да тако носит во вся дни живота своего, и никтоже его о сем истязует». Отпуская Никона на паству, отдаленную от столицы, царь, искренно к нему расположенный, не хотел и себя лишить умной и назидательной беседы с просвещеннейшим в то время мужем и своим другом. Поэтому «в В. Новгород своя государственная со всякою преудивительною мудростию и любовию исполненная писания присылаше, и присно желаше преосвященнейшаго митрополита всегда в царствующем граде имети и с ним благословесною беседою наслаждатися; но того за нуждою ему преосвященному, за врученным ему от Бога стадом и за надсмотрением градских дел, с государем всегда беседовати не допустил». Никон представлял державному своему другу необходимость, по церковным канонам, жить пастырю в пределах своей паствы.
Итак, не отвлекая своего друга-святителя навсегда от его паствы, царь, однако, в каждую зиму вызывал его в Москву для свидания и для совещания о церковных и государственных делах. Никон всякий раз возвращался оттуда с новыми знаками царского благоволения. Время святительства Никона в Новгороде было началом тех великих деяний и тех его незабвенных заслуг для всей Русской Церкви и для всего государства, которые потом во всем блеске открылись по вступлении его на престол патриаршеский и которые открыли великую душу его, глубокий ум, любвеобильное сердце и могучую волю.
Первым великим деянием Никона, по вступлении на Новгородскую святительскую кафедру, было искоренение им и исправление неблагоустройства и неблагочиния, какие царили тогда при общественном богослужении почти повсюду в России. Зло, с которым боролись высшие духовные власти около столетия и которого, однако ж, не могли одолеть, составляло так называемое многогласие при отправлении общественного богослужения. Церковные службы, как положено совершать их по уставу, казались длинными и утомительными, и опускать что-либо из предписанного уставом считалось великим грехом. И вот, чтобы сократить службы и выполнить все требования устава, придумали и мало-помалу привыкли отправлять службу в два-три голоса в одно и то же время. Всенощное и вечернее богослужение разделяли на несколько частей и отправляли все части вдруг. Ектении и возгласы совершенно сливались с пением клира. Один, например, начинал полунощницу с кафизмою, другой в то же время читал символ веры, тропари и т. д. до конца полунощницы. Один дочитывал шестопсалмие, другой вместе с ним уже оканчивал кафизмы; третий пел славу, четвертый говорил ектении, пятый возгласы и проч. И все они старались превзойти друг друга поспешностию. Из всего этого выходила такая путаница звуков, что почти не было никакой возможности ни слушать, ни понимать то, что читали и пели.
Один иностранец, бывший в России в первые годы царствования Алексея Михайловича, говорит между прочим о нашем богослужении того времени: «Тот священник считается самым лучшим, который может сказать больше молитв, не перевода духа. Пять или шесть человек читают громко, в одно и то же время, один послание, другой псалом, третий молитву и т. д.»
Другое, столько же закоренелое зло в нашей церкви было пение нестройное, дикое, лишенное всякого благообразия, производившееся притом в одно и то же время на разные напевы и с таким же беспорядком, как и чтение. Оно происходило от того, что в пении произносили слова не как в речи, а растягивали иногда до бессмыслия, переменяли в них полугласные буквы на гласные, прибавляли новые гласные, отнимали согласные, переменяли ударения на словах. Это так называемое «хомовое», или «раздельноречное», пение, в противоположность древнему пению «на речь», начавшееся у нас еще в XV в., постепенно усиливаясь, в 1 половине XVII века достигло крайности.
Преподобный Дионисий, архимандрит Сергиевской лавры, справедливо упрекал пресловутого в свое время головщика и уставщика Логгина за его пение: «Ты мастер всему, а что поешь и говоришь, того в себе не разсудиши, како прямее надо в пении, или в говорении разумети, чем ты и в церкви Божией братию смущаешь и в смех вводишь. В чтении и молении глаголеши: Аврааму и семени, и везде писана оксия над ятем, и семени, а ты – как сам выговариваешь, так и поешь и вопишь великим гласом: Аврааму и семени его до века, и светлую статью кричишь над наш». Около половины XVII века инок Евфросин написал «Сказание о различных ересях и о хулениях на Господа Бога и на Пречистую Богородицу, содержимых от неведения в знаменных книгах», разумея под ересями и хулениями те искажения слов, каким они подвергались при пении, например, Сопасо (Спас), во моне (во мне), пожеру, волаемо, людеми и подобное. Он свидетельствовал, что «в знаменныя книги вкралось безчисленное множество ошибок: редко такой стих обрящется, который был бы не испорчен в речах во всяком знаменном пении. Инде речи непоследующия разуму приложены, а во иных местах нужнейшия глаголания разуму отъяты, священныя речи до конца развращены, и не точию развращены, но и словенскаго нашего языка чужи, несвойственны и сопротивны».
В таком-то жалком состоянии застал наше церковное чтение и пение ревнитель церковного благочиния Никон. Вступив на Новгородскую кафедру, Никон и своим примером, и своим влиянием сделал то, над чем безуспешно трудились не только его предшественники, но и патриархи. Сердце его возмущалось церковными беспорядками, и он вооружился против них и словом, и делом. Немедленно, по вступлении на митрополию, он предписал: в церквах, вверенных его управлению, петь и читать в один только голос, без поспешности, с надлежащим благоговением, чтобы богослужение имело важность и величие, свойственное его духу.
Для большего успеха в столь важном деле он выписал из Киева знатоков греческого и киевского напевов, равно как и партесного пения, и поручил им обучать своих певчих. При содействии этих учителей он ввел у себя приятное и согласное пение. «Преосвященный митрополит Никон, – говорит Шушерин, – первее повеле в соборной церкви греческое и киевское пение пети, и велие име прилежание до пения, и на славу прибрав клиросы предивными певчими и гласы преизбранными, устроил пение одушевленное паче органа бездушнаго. И такого пения, якоже у митрополита Никона, ни у кого не было». Как ни хорош был новый порядок богослужения, установившийся вслед за уничтожением старого обычая читать и петь в одно и то же время в несколько голосов, однако ж, он многим был не люб, и особенно не нравился тем, которые свыклись с церковными беспорядками, считали искоренение их нарушением законного исполнения и которые восхищались нестройным чтением и пением. Но Никон не прекращал своих полезных трудов, а, напротив, более и более воспламенялся ревностью к продолжению их. «И на сие благочестивейший царь зря, и тако бо похвали его, яко житие его свято, и заповеди Божии исполнении и тщание. Во всем совершенствии есть благ муж сей, и едино слово его праведное, а не двоедушное, всякия чести сподобися».
Каждый раз, как только Никон приезжал из Новгорода в Москву, царь приглашал его для священнодействия ко двору. Никон служил в придворной церкви со своими новыми певчими и по новому порядку чтения, в присутствии самого царя. И когда царь услышал этих певчих и увидел благочиние в отправлении богослужения, установленное Никоном, тотчас завел такое же чтение и пение и в своей придворной церкви. А вслед за тем великий государь по совету и благословению своего духовного отца, протопопа Стефана Вонифатиева, «нача о единогласном и наречном пении в церквах промышляти и учреждение творити; ему же в сем богоначинаемом деле великий помощник и поборник бысть преосвященный Никон митрополит».
Нашлись и здесь люди, которые с негодованием и безрассудным ропотом встретили очевидное превосходство церковного пения и отличный порядок при богослужении, заводимые по образцу чтения и пения, введенных Никоном в своей епархии. И первый патриарх Иосиф смотрел на все это как на неуместное нововведение и выражал неудовольствие на Никона в слух своих приверженцев: «А святейший Иосиф, патриарх Московский, – пишет Шушерин, – за обыкновение тому доброму порядку прекословие творяше, и никако же хоте оное древнее неблагочиние на благочиние пременити». Тогда царь, вняв совету Никона, в 1651 г. созвал собор в своих царских палатах, чтобы улучшение в церковном чтении и пении, сделанное Никоном, распространить по всей России. На соборе присутствовали патриарх Иосиф, митрополиты Никон Новгородский, Варлаам Ростовский, Серапион Сарский, архиепископы Маркел Вологодский, Иона Тверский, весь освященный Собор и весь царский синклит. С ними царь держал совет – как бы искоренить многогласное чтение и непристойное пение в церквах, утвердившиеся от небрежения, причем напоминал в своей речи о Стоглавом Соборе и о патриархе Гермогене, действовавших против этого бесчиния. И все присутствовавшие на Соборе, во главе с царем, уложили, чтобы, по преданию св. апостол и св. богоносных отец и по уставу, во всем Московском государстве по церквам и монастырям пели чинно, безмятежно и единогласно, псалмы и псалтирь говорили в один голос, тихо и неспешно, со всяким вниманием, и обратившись лицом к царским дверям; чтобы певцы не пели в то время, когда священник говорит ектении и произносит возгласы, а священники не говорили ектений и возгласов, когда еще поют певцы; чтобы тропари и избранные псалмы не пелись разом на двух крылосах, а пелись поочередно, сперва на одном, потом на другом; чтобы чтецы не читали в то время, когда происходит пение... и проч. Тех же, которые начнут церковное чтение и пение совершать небрежно и петь и читать не единогласно, велено было ссылать под крепкое начало и смирять в монастырях монастырским смирением.
Свиток соборного Уложения положено было для общего сведения прочитать во всех церквах с амвона. В следующем 1652 году царь принял меры и против раздельноречного пения. В Москве образовался даже певческий хор. По совету Никона, царь вызвал из Киева знатоков пения и поручил им обучать московских дьяков. Так много сделал Никон в пользу прекращения беспорядочного чтения в церквах и для восстановления стройного пения, будучи еще митрополитом Новгородским. Устраивая порядок общественного богослужения, оглашая храмы Божии стройным и умилительным пением, чтением внятным и благообразным, Никон в то же время с пастырскою ревностью заботился и о внешнем украшении храмов. Любя в высшей степени церковное благолепие, Никон великолепно украсил храм Св. Софии в Новгороде и церковь Св. Никиты, епископа Новгородского, в Москве при Новгородском подворье. Золото, серебро и драгоценные камни блистали на св. иконах, священных сосудах и святительских облачениях, которыми украшался Никон.
Другою не менее важною заслугою Никона было распространение духовного просвещения как в своей новгородской пастве, так и особенно в Москве – столице государства. С первых же годов озарения России светом христианского учения правители ее и архипастыри сознавали нужду в училищах для образования духовенства, а через духовенство – и всего народа русского, и тогда же великими князьями заведены были первые училища в Киеве и Новгороде. Но последующие неблагоприятные обстоятельства и смуты государственные долго не позволяли наукам водвориться в нашем отечестве. Правда, у нас учились и учили, но весьма немногие, и то только чтению и письму. Открывались и училища, но тогдашнее невежество тут же спешило подавить возникающее просвещение в самом зародыше.
Прочный почин доброму делу воспитания положил мудрый патриарх Филарет Никитич учреждением в Москве (1633 г.) первого греко-латинского училища; ревностным подражателем его и продолжателем первосвятительских подвигов является Никон, который, по отзыву одного из отечественных наших архипастырей, «был пастырь, просвещением своим превышающий того века людей». Любя сам просвещение и с юных лет углубляясь в чтение Слова Божия и писаний отеческих, Никон с прискорбием смотрел на жалкое положение просвещения у нас и искал способов возбудить в соотечественниках охоту к основательному изучению Божественных и Священных Писаний и дать помощь как наставникам, так и желающим учиться. Он хорошо понимал, что справедливо уважать более христианскую жизнь, нежели образованность; но знал и видел, что пренебрежение науками ведет к гибельным последствиям для Церкви, тогда как основательная ученость может служить лучшим украшением для самого благочестия.
И вот, сделавшись Новгородским митрополитом, Никон уже заботится о приискании средств к распространению духовного просвещения прежде всего в Москве – столице государства, чтобы сделать ее средоточием и рассадником наук для всей России. В Киеве уже давно процветали ученые братства, воспитывавшие между прочим защитников православия для тамошнего края, теснимого униатами. Слава этих ученых иноческих обителей известна была в Москве; но здесь боялись просвещения и не хотели заимствовать его ниоткуда. Чуждый предрассудков, Никон в одну из побывок в Москве убедил государя пересадить семена духовной мудрости из южного края отечества нашего на север и дать им средства прозябнуть, возрасти и созреть к славе и укреплению Церкви и государства. Сотрудника себе и покровителя просвещения Никон нашел в молодом любимце и сверстнике государя – постельничем Феодоре Михайловиче Ртищеве, к которому имел «любовь зело велию и с которым о благоустроении советовался».
По мысли и убеждению Никона, Ртищев устроил на берегу р. Москвы, близ Воробьевых гор, у церкви Апостола Андрея, монастырь во имя Преображения Господня как бы в знак того, что отсюда теперь должно начаться преобразование духовной жизни нашего народа, как она некогда была преобразована св. проповедью первозванного Апостола. Сюда были вызваны ученые иноки Киево-Печерской лавры, Межигорского монастыря и других малороссийских обителей. В числе их первое место занимал Епифаний Славеницкий, «муж мудрый, искуснейший, многоученый, в философии и богословии изрядный дидаскал, искуснейший в еллиногреческом и славенском диалектах», успевший показать уже в Киеве много опытов своих богословских познаний.
В то же время Алексей Михайлович требовал в Москву от Киевского митрополита Сильвестра еще двух ученых иноков из лавры: Арсения Сатановского и Дамаскина Птицкого, «Божественная писания ведущих и еллинскому языку навычных, и с еллинскаго языка на славянскую речь перевести умеющих, и латинскую речь достаточно знающих». Цель призвания их в Москву была не только ученая, но и учебная. Занимаясь переводом «душеполезных книг» с греческого языка на славянский, они должны были вместе с тем обучать московское юношество свободным наукам. Таким образом, составилось в точном смысле ученое братство с училищем.
В то же время Никон у себя в Новгороде в Хутынском монастыре устроил типографию для удобнейшего распространения ученых трудов этого братства по всем краям обширного Отечества нашего и немало приобрел книг, по преимуществу греческих и латинских. Но, заботясь об открытии училищ и изыскивая средства к воспитанию юношества, Никон в то же время прилагал немалое старание о восстановлении давно прекратившегося обычая произносить при богослужении устные проповеди для назидания и научения пасомых истинам евангельским посредством живого слова, и сам первый подавал пример. Он знал в совершенстве, по тогдашнему времени, Слово Божие, так как чтение Священного Писания и отцев церкви с самых юных лет было любимейшим его занятием. «Бе бо зело, – пишет Шушерин, – от Божественного Писания сказателен, и богодухновенною беседою украшен, и глас его благоприятен и слушающим увеселителен, а не покоряющимся Богу и св. церкви страшен, и кратко рещи, яко в та времена не точию ему в том равного не было, но и подобнаго не обреталося».
Одаренный от природы силою и увлекательностию слова, проникнутый духом Св. Писания и св. отец, Никон не пропускал ни одной Божественной службы в храме без живого назидательного собеседования с народом. Беседа его была проста, естественна, для всех удобопонятна, задушевна. Голос был звучен и приятен. Многочисленные толпы стекались отовсюду послушать живую устную и сладостную для души, вдохновенную беседу своего архипастыря. Нередко слезы умиления текли из очей слушателей; со взорами, наполненными слезами, вещал им правду Божию и сам святитель. «Обычай же, – говорит Шушерин, – преосвященный митрополит имеяше таков: еже на часте святую литургию совершати, а наипаче во дни недельные и праздничные, и по литургии к народом слово Божие проповедуя, и яко огнем разжигая сердца слышащих от него слово Божие, и к Богу яко паряй всяк ум слышаще от него учение, и ради его поучения мнози от дальних приходов в соборную церковь к литургии притекающе и поучения его всем преславнаго с желанием послушающе, яко его поучение сердечную любовь к Богу показует, и от умилительных его словес слезы и радость приводят слышащих».
Но храм Божий был для Никона не единственным местом и время общественнаго богослужения – не единственным временем проповедания Слова Божия. При всяком удобном случае Никон обращался к Св. Писанию и в нем искал наставлений, сообразных с теми или другими обстоятельствами жизни. Приходил ли он в темницу – утешал узников Словом Божиим. Встречался ли на пути с нищим – подав милостыню, подавал и наставление из Слова Божия. Замечал ли какой-нибудь порок – немедленно обличал его Словом Божиим. Подавал ли кому совет наедине или в обществе других людей – Слово Божие непременно сопутствовало его слову. Даже в обыкновенных частных разговорах уста Никона как бы по невольному побуждению произносили изречения из Слова Божия. Так была настроена душа Никона; так была преисполнена ведением Слова Божия и любовию к нему! Тем отраднее было для паствы видеть у себя такого архипастыря, что подчиненный ему клир не обладал духовным просвещением. Поучая в храме народ, Никон в то же время поучал и клир; поучал он своих сослужителей и в частных беседах с ними. После этого Никон обратил свой многопопечительный взор на возвышение нравственного состояния своей паствы. Он непременно хотел видеть в подчиненном ему духовенстве достойных служителей алтаря Господня.
В то малопросвещенное время нашего отечества, когда боялись учиться и училищ, нередко принимались в клир люди грубые и сомнительной нравственности, люди, с обязанностями священного сана не знакомые и без сведений нередко даже в главных истинах веры и благочестия христианского. Такому нравственному и умственному состоянию священнослужителей соответствовала и самая внешняя их жизнь. Понимая светлым умом, что уважение народа к вере и Церкви весьма тесно связано с уважением к служителям веры и церкви, Никон «зело прилежание творяше тако, якоже ин никто же, во еже духовным почитаемым от людей быти», и этого старался достигнуть тем, чтобы представить в духовенстве образец благочестия для народа. Затем, чтобы пастыри стояли всегда выше своих пасомых по уму, образованию и жизни, которая бы свидетельствовала о чистоте их веры и теплоте любви, Никон имел неизменным правилом не принимать никого в церковный причт, предварительно не испытав образа его мыслей, знания им веры и правил церкви и без свидетельства отца духовного о благочестивой его жизни; а приняв в клир, он строгое имел наблюдение над избранными и посвященными и строго наказывал неисправных.
Таким способом избрания лиц в клир значительно предотвращалось определение на священные должности людей, недостойных высокого служения. Впрочем, не одно духовенство составляло предмет пастырских забот и попечений Никона; он внимательно следил и за духовным состоянием всех своих пасомых; поэтому, с пастырскою рассудительностью снисходя к их немощам и поучая их вере и христианским добродетелям, он в то же время настойчиво требовал от них неуклонного исполнения обрядов церкви и всех ее постановлений, определяющих внешнее благоповедение христианина. Примером постоянного и неуклонного сохранения христианских правил жизни всегда служил для паствы Никона его собственный дом. Строго соблюдая всегда и все уставы церкви, Никон и окружал себя людьми, подобными ему по ревности к благочестию, и им-то вверял надзор за благоповедением своих пасомых.
Вот что рассказывает об этом Шушерин: «В доме Никона жил странноприимник, именем Василий, и прозванием Босый, так как зимою и летом всегда ходил бос, муж добродетельный, который был приставлен от него кормить бедных, нищих. Этот святой муж имел такой обычай: когда по повелению митрополита Никона устроял всех нищих в трапезу, тогда у всякого на выи дозирал креста, и если у кого не находил его, тому отдавал свой крест, и в то же время поучал, чтобы честное знамение нашего спасения всегда носили на выи своей, чаще взирали на него и постоянно воспоминали о неизреченной милости Господа, пострадавшаго нашего ради спасения и о своем последовании Христу».
При таких неусыпных заботах об умственном и нравственном возвышении своей паствы Никон не менее того заботился и о внешнем ее благосостоянии. В этом отношении первым предметом его забот было благоустройство церковного управления и хозяйства. По древнему вселенскому праву, Русская Церковь имела всегда свой суд над священными лицами и посвященными Богу предметами, который был утвержден в нашем Отечестве законами еще первых наших великих князей и который потом подтверждался последующими государями. Но с XIV в. стали появляться у нашего духовенства так называемые несудимые грамоты, которые освобождали церкви и монастыри от суда своего епископа и поставляли в зависимость от одного государя. Богатые монастыри и церкви с усилием домогались этой привилегии. Причиною такого домогательства духовных избавиться от суда святительского было то, что суд в низших епархиальных инстанциях был иногда стеснителен и тяжел. Поэтому-то случалось, что и те церкви и монастыри, которые не хотели или не могли избавиться от суда святительского, просили у своих архиереев несудимой грамоты, чтобы зависеть непосредственно от них, а не от десятильников и им подобных чиновников. Давая эти привилегии, духовная и светская власть тогда же сознавала несообразность такого порядка дел с церковными канонами, и Стоглавый Собор подчинил все духовенство своему епископу. «Государевым дворецким и дьякам дозволено было наблюдать только за монастырской экономией и монастырской казною и ведать судом монастырских крестьян».
В таком именно виде учрежден впоследствии, при Михаиле Феодоровиче, и монастырский приказ. Он заведовал не более как «расправою мирских обидных дел, давал суд на прикащиков и крестьян монастырских» и собирал с монастырских вотчин царские подати. Но вот в 1648 году царь Алексей Михайлович признал за благо дать всем своим подданным общее «Уложение», по которому бы «Московскаго государства всяких чинов людям, от большаго до меньшаго чина, суд и расправа была во всяких делех всем ровно»; он дал вместе в том же законодательном кодексе общее «Уложение» и для всего духовенства по делам гражданским. Царь «указал монастырскому приказу быть особно». Здесь должен был совершаться «суд во всяких истцовых искех» на митрополитов, архиепископов, епископов, их приказных и дворовых людей, их детей боярских и крестьян, на монастыри, на архимандритов, игуменов, строителей, келарей, казначеев, на рядовую братию, монастырских слуг и крестьян, на попов и церковный причт. Учреждением такого суда для духовенства произведена была весьма важная перемена в управлении нашей Церкви. Прежде монастырскому приказу подлежали по суду только те монастыри и духовные лица, которые имели несудимые грамоты; а теперь этому приказу подчинены все монастыри и все духовные лица, и несудимые грамоты упразднены. Прежде монастыри и духовные лица судились в приказе только по искам на них лиц других ведомств, а теперь в этом приказе должны были судиться духовные лица «во всех истцовых исках», следовательно, и во взаимных тяжбах между собою. Прежде архиереи и настоятели привилегированных монастырей в исках на них сторонних лиц подлежали непосредственно суду государя, а теперь все духовные лица без изъятия и во всех на них исках должны были ведаться в монастырском приказе; таким образом, Церковь в лице своих иерархов прямо подчинялась суду властей гражданских.
Правда, в монастырском приказе вначале заседали и духовные лица, например архимандриты Чудовский, Троицкий и Новоспасский; но духовные лица скоро были вытеснены из приказа, и там остались одни мирские судьи, окольничий и два дьяка. Этого мало: чиновники, заседавшие в монастырском приказе, пользуясь неопределенностью правил «Уложения», установивших права и обязанности, и опираясь на общие постановления о суде, стали мало-помалу переходить от разбора мирских (исковых) дел в церковных вотчинах к заведованию в них духовными делами и начали распоряжаться по своему произволу избранием и поставлением не только священников и причетников в монастырские села, но даже определением и отрешением от мест самых настоятелей монастырей. Патриарх Иосиф, по своей старости и слабости, был не в силах предпринять какие-нибудь меры против такого расширения власти монастырского приказа. От дальновидного и проницательного Никона этот церковный беспорядок не укрылся, хотя он и прикрывался именем государственного «Уложения».
Глубоко почитая царя, Никон, однако ж, дерзновенно восстал против монастырского приказа, как только был посвящен в сан митрополита. Отправляясь в свою паству, Никон представил царю, что в Слове Божием и в канонах церкви нет основания для духовной власти монастырского приказа, хотя «Уложение» и основало свои постановления, между прочим, на «правилах св. апостол, св. отец и на градских законах благочестивых греческих государей». Благочестивый царь, которого сердце было открыто для всех внушений закона Евангельского, признал справедливым это представление Никона и не замедлил сделать для него отступление от своего «Уложения»: дал ему несудимую грамоту, такую же, какая была дана некогда патриарху Филарету Никитичу, и предоставил Никону во всей Новгородской епархии «монастыри, и архимандритов, и игуменов, и братью, и соборных церквей протопопов, и попов и дьяконов, и всех ружных церквей попов, и дьяконов, и причетников, и монастырских служек, и крестьян ведать судом и управою во всяких управных делех, опричь разбойных и татных и убивственных». Несмотря, однако ж, на несудимую грамоту, данную Никону от царя, воевода Новгородский продолжал вмешиваться в церковные дела.
Тогда Никон, в бытность свою в Москве, опять обратился к царю с жалобою на вмешательство светской власти в дела церковного управления. Алексей Михайлович подтвердил воеводе, чтобы отнюдь не вмешиваться в дела Новгородской митрополии. С тех пор Никон уже спокойно управлял вверенною ему паствою. Защищая права и преимущества церковного суда, Никон в то же время немало заботился и хлопотал о сохранении и увеличении и церковных имений. Еще в 1580 г. Собором и синклитом, по желанию и с утверждения Грозного, было постановлено, чтобы владыки и монастыри довольствовались только теми имениями, какими владели, и не покупали себе новых земель и вотчин, не принимали их в заклад и чтобы вотчинники не отдавали своих вотчин по душам в монастыри, а давали бы деньгами, сколько будет стоить жертвуемая вотчина, и только бедным обителям, которым нечем жить, дозволено было бить челом государю о пожаловании их землею.
Впрочем, мысль об ограничении прав духовенства на приобретение вотчин возникла гораздо ранее, именно в XV в. у Иоанна III, и с тех пор не переставала быть постоянною государственною мыслию. Феодор Иоаннович, сын Грозного, подобно своему отцу, запретил вотчинникам жаловать в монастыри поместья на помин души. Правда, Михаил Феодорович, по совету своего отца Филарета Никитича, не лишал монастыри имений и прав на приобретение новых вотчин, а установил только лучший порядок управления монастырскими имениями; тем не менее царь Алексей Михайлович в 1648 г. при составлении «Уложения» подтвердил постановления прежних государей об ограничении права церквей и монастырей на приобретение недвижимых имений, и такой закон внесен был в книгу «Уложения». Наконец в 1651 году снова подтвержден этот закон «Уложения» окружною грамотою царя. Казалось бы, что после всех таких постановлений церковные недвижимые имения не могли увеличиваться. Но Никон, пользовавшийся неограниченною дружбою царя, стоял выше всех подобных ограничений. Ни один из епархиальных архиереев никогда не владел такими огромными вотчинами, как Никон. Много земель и деревень имел при себе Новгородский архиерейский дом и прежде, но при Никоне богатства его увеличились еще более. Впрочем, защищая и умножая имения Новгородского архиерейского дома, Никон преследовал не какую-нибудь корыстную цель: он имел в виду не обеспечение только и обогащение кафедры приобретаемыми покупкою и жертвуемыми на помин души угодьями, а главным образом то, чтобы, в случае Божиих посещений области какими бы то ни было несчастьями, кафедра могла делиться избытками с паствою и облегчить судьбу несчастных, что мы и увидим далее.
Насаждая в пастве своей христианское благочестие, Никон к развитию и утверждению сего благочестия считал лучшим средством благотворительность как частную, так и общественную; и потому старался развить и укоренить эту высокую добродетель в своей пастве более всего примером собственной благотворительности, содержа всегда в уме и сердце слова Господа: «о сем разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою» (Ин. 13, 35). В этом случае он является величайшим иерархом-благотворителем. Никто никогда не оказывал столько благотворений бедным и сиротам, как Никон. Вступив на кафедру Новгородскую, он был истинным отцом своей паствы. Никогда он не выходил из дома, не взяв достаточного количества монет для раздачи бедным и нищим, которых мог встретить на дороге. «От своея келейныя казны, – говорит Шушерин, – во чпаг свой влагаше по рублю и по два на разделение милостыни, и бедным из своих рук даяше, по гривне и по полтине и вяще, зря по потребе». Так он делал каждый раз, когда показывался где бы то ни было народу, и особенно когда шел в храм Божий для принесения Бескровной Жертвы. Из храма нередко направлялся он к домам убогих и темницам, чтобы и там преподать утешение печальным и облегчить бедность.
Но и двери архипастырского его дома были всегда отверсты для несчастных. Когда в Новгороде от неурожаев чрезвычайно вздорожал хлеб и граждане, томимые голодом, стали беспрестанно стекаться к Никону толпами для испрошения помощи, архипастырь, не щадя ни хлеба, ни денег, учредил в своем доме постоянную раздачу милостыни, по воскресеньям деньгами, а ежедневно хлебом. «В каждый день воскресный собирались к Никону, – говорит его жизнеописатель, – убогие старцы и старицы, сирые отроки и младенцы и все бесприютные и безпомощные, и всем отпускалась неоскудная милостыня: старым давал он по две деньги, средовечным по одной, малым и младенцам по полуденьге; а утром каждого дня в его же доме, происходила раздача хлеба: всякий бедняк получал на день из рук митрополита укруг хлеба, тяжестию в две литры». Между тем голод распространился и во многих других местах Новгородской области. Везде открылась чрезвычайная скудость и дороговизна хлеба.
Молва о благотворительности митрополита привлекла к нему многочисленные толпы народа со всех краев обширной его паствы. Надежда пришельцев, томимых голодом, оправдалась. Никон приказал отделить в своем доме особенную обширную палату, «глаголемую погребную, и в ней заповедал кормить нищих и убогих, елико когда их придет, и на всякий день овогда приходяще человек по сту и по двести, овогда по три ста и вяще», и все были накормлены от щедрот милостивого архипастыря. В 1651 г. Никон, отправившись в Москву, всюду знаменовал свой путь благотворениями; а проживая в Москве, он благодетельствовал нищим щедрою рукою: кроме того, что подавал милостыню «врознь» деньгами, он нередко «в праздничные дни покупал у продавцов хлебы, калачи и платье, и отправлял в богадельни и тюрьмы».
Но нищелюбивая душа Никона не удовлетворялась частной благотворительностью. Никон непременно хотел, чтобы престарелые и увечные имели постоянный кров и призрение. Для этой цели он выпросил у государя позволение построить в Новгороде богадельни для бесприютных старцев и увечных. Добрый царь вполне сочувственно отнесся к пастырским предначертаниям своего друга и, ревнуя о пользе государства, одобрил и подтвердил его намерение касательно устройства богаделен. Пользуясь таким позволением, Никон «устрои в Новгороде вновь четыре богадельни для убогих, сирот и повсягодное тем нищим у великаго государя испроси пропитание». Успокоенные в них старцы, убогие и сироты весьма часто видели среди себя своего благодетеля и покровителя: и «сам во свои и во иная старая богадельны и в темницы хождаше», где проводил по нескольку часов в утешительных и назидательных беседах.
Такими-то пастырскими трудами и подвигами ознаменовал Никон свое кратковременное пребывание на Новгородской святительской кафедре, но в то же время он не переставал быть мудрым советником и сотрудником государя. Мы уже ранее видели, как Никон, будучи еще в сане архимандрита, служил царю верным вестником правды и искренним другом бедных. В каждую пятницу, отправляясь во дворец для участия в богослужении, он дорогою принимал просьбы от народа, и царь, не выходя из церкви, давал на них свои решения. Отпуская Никона в Новгород, царь поручил ему иметь здесь надзор за гражданским правосудием; в то же время ему дано было полномочие осматривать темницы, разбирать вины узников и, смотря по вине и по раскаянию, отпускать на свободу. Он имел почти неограниченное право наблюдать за производящимися делами во всех судебных местах и утверждать или изменять, по своему усмотрению, решения судей гражданских, не исключая решений и самого градоправителя. Таким образом, Никон по воле государя сделался как бы полномочным наместником его в Новгороде.
О том высоком значении, какое имел Никон, будучи Новгородским митрополитом, достаточно указать на те жалобные возгласы, которые слышались при дворе царском. «Николи такого безчестия не было, – говорили вельможи, – чтобы ныне государь нас выдал митрополитом». Проницательный архипастырь видел это и, одушевляемый ревностью, с честью для себя и для всего духовенства оправдал это высокое доверие к нему царя-друга. Прежде всего и более всего он действовал на судей убеждениями и вразумлениями, внушая им быть бескорыстными и нелицеприятными, «обид, налогов и раззорения никому напрасно не творить. Очесом слыша великий государь зело радовашеся... вся по прошению его исполняя, бе бо преосвященный митрополит от божественного писания вельми сказатель памятью и разсуждением и добропорядочным поведением зело преукрашен и богодухновенною беседою сказатель подробно на всякое слово ответ, с примером святаго писания и с премудрым причтею разсуждения благоизрядна, и глас его яко труба благоприятен и слушающим увеселителен, и просто рещи ангел, а не человек, а не покоряющимся Богу и святей церкви страшен, и от премудрости словес его никто бы мог противу стати ему, яко от Бога вся в нем действуемая благодатью всесвятаго Духа; и кратко рещи, яко в та времена не точию равного ему архиерея, но и подобнаго не обреталося; и едино рещи: идеже страх, страх; идеже честь, честь. Таков бе сей митрополит Новаграда».
Облеченный властью от царя, он, являясь в темницы с милостынею, приносил с собою в то же время и правосудие, и отраду узникам. Он проводил с ними иногда по нескольку часов в беседах. Проницательный ум его умел скоро и верно различать виновных в преступлении от невинно осужденных и определять степень преступлений. Каждое посещение им темницы было ознаменовано «наипаче освобождением немощных от рук сильных и неправильно содержимых в узах» и облегчением участи виновных. Слух о правосудии митрополита распространился повсюду в его епархии. Оттого случалось, что враждующие, прежде чем начать между собою дело судебным порядком, приходили к митрополиту и на словах объявляли ему неудовольствие друг против друга. Никон с участием отца разбирал их дело, упрекал виновного, ободрял и утешал обиженного и, не нарушая прав ни того, ни другого, оканчивал спор миролюбием. Но там, где данное ему от царя полномочие и собственное его благоразумие не имели успеха, Никон переносил дело на решение самого царя. Во время путешествия в Соловецкий монастырь за св. мощами митрополита Филиппа он заметил в Каргопольском уезде некоторые беспорядки в делах земских и между прочим упущение одного важного источника государственных доходов и тогда же с пути сообщил царю свои замечания.
Но в особенно величественном виде преданность Никона царю и отечеству открылась при укрощении вспыхнувшего в Новгороде мятежа. Со времени присоединения Новгорода к России, в 1617 г. и по 1650 год, он, как древняя отчина русских властителей, видел только попечительность их о благоденствии разоренного края. Святыня Новгорода была восстановлена, жители были призваны на оставленные пепелища. Царь Алексей Михайлович обратил также внимание на иностранную торговлю и поставил ее в цветущее состояние. Это-то обстоятельство и было причиною мятежа, вспыхнувшего в Москве 26 мая 1648 г., который потом со всей силой через два года (в 1650 г.) отозвался в Новгороде. Кто не знает, какую силу имел при дворе царя Алексея Михайловича боярин Борис Иванович Морозов, бывший некогда пестуном (дядькой) государевым, а потом временщиком, властолюбцем, ненавистным народу? Морозов, вступая в торговлю, доходил до монополии; народ единогласно обвинял его в умышленном повышении цен на жизненные припасы. В это самое время в Москве народ возмутился против Морозова, вломился в Кремль и требовал выдачи изменника – Морозова. Здесь юный государь Алексей Михайлович оказал великодушие, достойное славы в истории: он сам выехал к разъяренному народу, ласково говорил с ним, обещал правосудие – и народ успокоился. Через два потом года московский мятеж с ужасающей силой повторился в Новгороде и в Пскове. Народ, единогласно обвиняя Морозова и других чиновников в монополии по торговле, обвинял вместе с тем и все именитое купечество, в особенности купечество иностранное, живущее по торговым делам в Москве, а более того в Новгороде, в сношении их с боярином Морозовым. В Новгороде, кроме того, народ негодовал на иностранное купечество, как на главную пружину умышленной дороговизны и через то разорение бедного класса людей; не доверяли уже самым правителям – воеводам и дьякам царским, подозревая в них слуг сильного Морозова и подкупленных иностранным купечеством. Все предвещало мятеж, и он вспыхнул в марте 1650 года.
Главным виновником возмущения новгородцев был один посадский человек, по прозванию Волк. Ходя по домам иностранных купцов «ради своего злаго прибытка и приобретения», он выдавал за несомненное, что новгородцы злоумышляют против них. «Знаете, – говорил Волк, – что народ не любит боярина Морозова, называет его изменником, вас его друзьями и лазутчиками; вскоре и внезапу хотят и вас смерти предати и имения вся разграбити; поэтому если кто хочет душу свою спасти от напрасныя смерти, елико можете в скорости отсюду утекайте». Иностранные купцы, видя и сами прежде того явное к себе недоброжелательство народа, всему этому верили, даже благодарили и дарили Волка. Наконец в один день не стало в Новгороде ни одного иностранного купца: они бежали, тайно захватив только лучшие вещи из своего имущества, оставя посредственный и грузный товар в лавках. Возмутитель не удовольствовался тою своею ложью, за которую уже получил деньги, он для большей прибыли решился обмануть и своих сограждан. Явившись в земскую избу, он всенародно объявил, что немцы – друзья Бориса Морозова и участники в измене его царю – отпущены им с казною в свою землю и теперь находятся в Новгороде. «Порадеем великому государю, переловим беглецов, и будем судить их, как изменников», – заключил он свою речь. Народ, слыша такое заявление Волка и не подозревая, что тут кроется ложь и злой обман, толпами и с яростью бросились в погоню за немцами. Догнав их где-то на дороге, бунтовщики ограбили имущество и без всякой жалости били их насмерть. Нашлись, однако ж, люди более рассудительные. Воздержав мятежников от убийства и кровопролития, они представили им все неблагоразумие действий. «Кто же будет свидетелем измены Морозова, если мы перебьем здесь всех немцев?» – сказали они. Бунтовщики одумались и остановились, сковали несчастных, как пленников, привели в Новгород и там заключили в тюрьмы. Между тем мятеж народный быстрою лавою распространился по всему Новгороду; заключив немцев в темницы, мятежники устремились грабить их лавки и дома; не было пощады и согражданам богатым и знатным; всех начали обвинять в заговоре с немцами. Воеводою в Новгороде в это время был боярин – князь Феодор Андреевич Хилков. Узнав о народном мятеже, он послал дьяков и стрелецких голов с отрядами войск, чтобы уговорили крамольников прекратить междоусобицу и напрасное разорение. Но большая часть стрельцов, увлеченная корыстолюбием, перешла на сторону возмутителей. Дьякам и головам стрелецким угрожали смертью, если они не перестанут уговаривать народ. В толпе раздался чей-то голос: «То все друзья Морозова, участники в измене! Они согласились продавать соль, мясо и рыбу в чужие земли, от чего де пошли и недостаток и дороговизна». Мщение запылало в груди обезумевших ревнителей государственной пользы. Народ и стрельцы, кипя страстью убийства, устремились в крепость к дому воеводы. Оставленный всеми и видя беду неминучую, Хилков через башни Покровскую, Кукуевскую и Спасскую по городской стене убежал в архиерейскую палату и умолял Владыку спасти его от неистовства разъяренного народа. «Пойдем же и мы туда и убьем изменника», – закричали неистовые голоса, и разъяренная чернь с неистовым криком, дреколием и каменьями устремились к дому митрополита.
Неустрашимый Никон, скрыв Хилкова во внутренних своих покоях, приказал своим людям крепко запереть ворота дома. Крамольники начали бревнами разбивать ворота и кричать, чтобы митрополит выдал им воеводу – друга немцев и Морозова. Некоторые из домашних людей по его приказанию вышли к бунтовщикам и пытались было уговорить их. Но ожесточенная чернь, обезумевшая от ярости, схватила их, осыпала бранью и с жестокими пытками допрашивала, где скрыт воевода. Верные слуги, при всей ожесточенности крамольников против них, не открыли им места убежища воеводы и терпеливо переносили удары. Многие из них даже пали жертвою неизменной верности. Между тем по всему городу раздавались два набата: один на городской башне, а другой на Ярославовом дворе, близ земской и таможенной избы, где был главный притон бунтовщиков. Город был в волнении и ужасе. Неустрашимый архипастырь, готовый положить душу свою за люди, вверив себя Богу, сам вышел к крамольникам. При виде святителя народ притих и молчаливо ожидал его слова. С отеческой кротостью начал Никон говорить: «Любезные дети! Со оружием ли изыдосте на мя? Аз по вся дни бех с вами и не ясте мя, ныне почто тако приидосте ко мне? Видите, яко аз пред вами стою и не крыюся, понеже аз есмь пастырь, подобает бо ми душу положити за вы» – и ина из святаго писания изрече. – «Так и сей есть заступник изменничей и хранитель», – завопила разъяренная толпа и со зверством кинулась на святителя. Никон был повержен на землю. Удары со всех сторон посыпались на него: одни били руками, другие – палками, иные бросали камнями, а некоторые без всякого милосердия топтали. Великодушный Никон, пока был в сознании, молился за своих бийц, как Спаситель некогда за своих распинателей: «Отче! Не постави им греха сего; не ведят бо, что творят» (Лк. 23, 34). Наконец силы совсем оставили, и он уже без чувств лежал, поверженный на земле. Неистовая и буйная чернь продолжала волочить его по земле и наверно убила бы, если бы некоторые из более благоразумных не окружили святителя полумертвого и не удержали безумную чернь от совершения злодеяния. Многие думали, что владыка умер, потому что он лежал почти без дыхания.
Тут только открылись глаза у крамольников, которые до сих пор были в ослеплении от страсти мщения. Невольный ужас овладел ими, и один по одному они стали расходиться со двора митрополита; вскоре удалилось отсюда и все скопище. Митрополита со слабыми признаками жизни подняли служители его и внесли в келлию. Через несколько времени он пришел в себя и, как ревностный архипастырь, не хотел и думать о своей безопасности, когда паства его бедствовала от мятежа. Несмотря на тяжкие побои и крайнее истощение сил, он решился со своей стороны сделать все, чтобы только усмирить мятеж и восстановить тишину и порядок в городе. Немедленно приказал он отправить гонцов ко всем градским архимандритам, игуменам и священникам с наказом, чтобы безотлагательно явились в храм Св. Софии. Между тем здесь начался благовест к крестному ходу. Никон, приготовляясь к смерти, исповедался у своего отца духовного и, когда собралось в соборе духовенство, пришел туда и сам. Отсюда с церковными хоругвями, крестами и иконами открылось шествие в Знаменский собор.
С великой нуждой совершил Никон путь; кровь лилась у него из ушей и из гортани. Было около 3 часов дня. Изнемогая от побоев и ран, он, однако ж, совершил литургию в Знаменском соборе и, укрепившись Св. Тайнами, велел вести себя непокрытым в санях прямо к земской и таможенной избам, где происходило собрание бунтовщиков. Твердо предстал пред ними архипастырь. Появление святителя, избитого, израненного и обливающегося кровью, привело в трепет и ужас злочестивое скопище. Приказав поднять себя и собравшись с силами, Никон с неустрашимостью начал говорить: «Дети! Слышите ли, яко вам правду не обинуяся глаголах, ныне же наипаче глаголю, ибо уже готова душа моя грешная к смерти, безсмертнаго бо источника Христа моего и Бога тело и кровь сподобихся прияти; тем же хотя ваши души, яко аз грешный пастырь, от возмущающих вас волн спасти, нарочно к вам приидох; аще во мне зрите кую вину или неправду к царю или к Российскому царствию, то мне оно изъявя, убийте мя. Только обратитесь к вере и повиновению». Объятые стыдом и страхом, крамольники не смели возвести и взоров на изувеченного иерарха и ничего не отвечали ему, «начали един по единому расходитися: и тако вси в домы свои пойдоша». Никон велел вести себя отсюда в храм Св. Софии и здесь, среди многочисленного собрания духовенства и народа, предал поимянно анафеме главнейших зачинщиков возмущения.
Тогда горькое раскаяние заступило в народе место ожесточения. Сам Никон в письме к царю и ко всему царскому семейству так рассказывает о деле: «18 марта был я в соборной церкви у заутрени, и после полунощницы, по своему обычаю, ексапсалмы (шестопсалмие) сам говорил, а после тайно про себя говорил канон Иисусу Сладкому на первой кафизме; и после первой статьи на другой кафизме, творя молитву Иисусову, стал я смотреть на Спасов образ местный, где стоит пред нашим местом, списан с того образа, который взят в Москву царем Иваном Васильевичем, поставлен в Москве в соборной церкви и называется Златая Риза, от него же и чудо было Мануилу Греческому царю. И вот внезапно я увидел венец царский золотой на воздухе над Спасовою главою; и мало-помалу венец этот стал приближаться ко мне; я от великаго страха точно обезпамятал, глазами на венец смотрю и свечу перед Спасовым образом, как горит, вижу, а венец пришел и стал на моей голове грешной, я обеими руками его на своей голове осязал, и вдруг венец стал невидим. С этого времени я начал ожидать инаго себе посещения. Марта 19 пришел на Софийский двор Гаврила Нестеров, будто в своей вине покаяние принося, и я велел его поберечь, пока пойду к обедне, и хотел его разрешить и молитвы разрешительныя проговорить. Но Жеглов, узнавши об этом, велел бить в набат на Торговой стороне, и ко мне на сени начали ломиться. Я вышел и стал их уговаривать, но они меня ухватили со исяким безчинием, ослопом в грудь ударили и грудь разбили, по бокам били кулаками и камнями, держа их в руках, били и Cофийского казначея, старца Никандра, и детей боярских, которыя были за мною, и повели, было, меня в земскую избу». Затем, сказав о других насилиях и оскорблениях, нанесенных ему, и о том, как он с великою нуждою добрел до Знамения и спехом служил там Св. Литургию, пишет в конце: «Ныне лежу в конец живота, кашляю кровью, и живот весь запух. Чая себе скорой смерти, маслом я соборовался, а если не будет легче, пожалуйте меня, богомольца своего, простите и велите мне посхимитися».
Но главные зачинщики возмущения, предчувствуя беду неминучую за свою затею, в страхе и отчаянии начали придумывать средства оправдаться пред царем. И вот начались новые ужасы в народе: положив пред окнами земской избы плаху и секиру, они под угрозою смерти принуждали людей всякого чина подписывать свои имена на белых столбцах, на которых предполагалось написать челобитную от имени будто бы всех новгородских граждан, что они, истребив изменников, «показали тем радение государю». Таких подписей собрано было более тысячи. Особенному насилию со стороны бунтовщиков подверглись духовные, как свидетели более достоверные, чем все другие. Между тем, чтобы в Москве не узнали об истинном положении дел в Новгороде, крамольники расставили вокруг города по всем дорогам крепкий караул, с крепким наказом никого не пропускать в Москву; а для большего успеха в этих распоряжениях избрали предводителей, из коих главный назван «воеводою», а прочие «его помощниками». К стыду крамольников, воеводой сделался некто Иван Жеглов, дворецкий митрополита, посаженный им за тяжкое преступление в тюрьму и оттуда во время мятежа освобожденный бунтовщиками. Он-то теперь отдавал приказания своим подчиненным и орудовал всем делом. Чтобы утушить беду, выбрали трех человек посадских, двух стрельцов, одного казака и отправили их в Москву к государю, с дарами и челобитной. В ней, описав столкновение с немцами 15 марта из-за того, что немцы выезжали из города воровски – ночью, что кончилось дракою у Чудного Креста, доносили, что шведы ожидают в Новгороде его – государевой денежной и хлебной казны, чтобы, получивши эту казну, нанять войско и идти под Новгород и Псков; затем просили не отпускать из Московского государства в Швецию денежной и хлебной казны и съестных припасов и отпискам митрополита и воеводы Хилкова не верить, так как они пишут с сердцов. Челобитная на Хилкова состояла в том, что «он царскаго указа не слушает, отпускает торговых людей в Швецию с хлебом и мясом по ночам для своей бездельной корысти и на заставы писал, чтобы товаров не осматривали в возах, а которые головы и стрельцы осматривают, тех бьют кнутом и батогами нещадно. Он же в Новгороде у всяких чинов людей в избах печи печатал и в холодные дни топить изб не давал, отчего малые дети перезябли и померли. Он же наговорил митрополита Никона, чтобы тот в день государева Ангела новгородцев проклинал без государева указа и без патриаршаго». Относительно митрополита Никона писали: «Всех священников митрополит запрещает, не велит им к мирским делам и челобитным прикладывать руки вместо неграмотных людей, и от того митрополичьяго проклятия в Новгороде во всяких людях учинилось великое смятение. Митрополит с окольничим мучили подьячего Нестерка ослопами и поленьем. Новгородцы били челом митрополиту о невинном, и Никон отдал его убитого замертво. За такое неистовство и проклятие сила Божия Никона митрополита обличила: когда в церкви Знамения стал он говорить: «Свет Христов просвещает все», – ударило его и всего разбило. Он же Никон на память государевых отца и матери всяких чинов людей и чернецов на своем дворе бил на правеже насмерть. Когда пришла весть о рождении царевны Евдокии Алексеевны, то митрополит на такой радости никого из тюрьмы не освободил; он же хотел соборную церковь Софийскую рушить, а та церковь построена по ангельскому благовестию, и мы ему об этом били челом и церкви рушить не дали, и он, сердясь за это, пишет всякия отписки на нас государю. Он же митрополит держал за приставом в цепи и в железах бывшаго своего приказного Ивана Жеглова многое время и несколько дней, возя на дровнях, на правеже его бил и мучил ослопьем насмерть, и вымучил на нем денег триста рублей, и многие он митрополит неистовства и смуту чинит в миру великую, и от той его смуты ставится в миру смятение». Этого мало, один из главных бунтовщиков и мятежников – Федька Негодяев, живя в Москве, куда был отправлен князем Иваном Никитичем Хованским, присланным для усмирения Новгорода, успел заискать там расположение бояр и царя, видел царские очи, был у руки и получил прощение. Понятно, что для уменьшения своей вины он должен был наговаривать на Никона.
Он объявил, что Никон и прежде был виновником смуты: митрополит хотел в соборной церкви переделывать, и вот в Петров пост 1649 г. мирские люди многие приходили к нему с шумом и говорили: «Прежде многие власти были, а старины не портили; мы тебе стараго ничего в соборной церкви переделывать не дадим». От митрополита пошла толпа к Святой Софии, подвязи из церкви выбросили, мастеров, которые подвязывали подвязи и сбирались столпы ломать, хотели бить, но те спрятались. Негодяева отправили из Москвы в Новгород уговаривать горожан к повиновению, уговаривать и Жеглова, чтобы отстал от воровства, и обещать прощение. Но вслед за этим, 20 апреля, получена грамота от Хованского, что новгородцы покорились. Как сильно было впечатление, произведенное в Москве наговорами Негодяева, видно из того, что на другой же день по получении известия от Хованского о покорности новгородцев, 21 апреля, царь писал Никону: «Ты бы соборной церкви и столпов ломать не велел». Никон сильно огорчился и отвечал длинною грамотою; описав все свое поведение во время мятежа, продолжал: «Посадские добрые люди у меня пробыли во дворе, поил я их и кормил, и всякое худое дело у Ивашки да у Игнашки (Жеглова и Молодожникова) моего ради постояния разорялось и в совершение не приходило, и только бы я о том не стоял, много бы хуже Псковскаго было; беспрестанно я за тебя, государя, Бога молил и к тебе писал, нанимая худых людей всякими способами, посылал тайно. И за то, по наговору Ивашки Жеглова, опозорен и изувечен; да тот же Ивашка с товарищами били челом тебе ложно, будто я всех новгородцев проклинал; но я проклинал воров, а не добрых людей, и оттого будто сталась смута; но я проклинал на третий день смуты. Да они же били челом, будто я хотел соборную церковь всю рушить, и то явное их ложное челобитье: как мне без твоего государева указа рушить? да и Софийской казны не будет столько, что разобрать, не только что вновь создать. А Федька Негодяев твою государеву милость обманом выманил, а он не только твоего государева жалованья не стоит, но и живота не достоин; он на меня тебе государю и боярам твоим налгал небылицу, для его ложных слов ты на меня кручинишься, и что я к тебе ни писал, ответа мне до сих нор нет никакого; мне о том очень сумнительно и впредь о твоих государевых делах писать к тебе и здесь говорить нельзя. А ныне в великом Новгороде тихо, сильно плачутся о мимошедшем своем к тебе согрешении. Милостивый государь царь и великий князь Алексей Михайлович! уподобись милостивому и человеколюбивому Богу! как будут тебе о своих винах челом бити, прости; а я, уговаривая их, в твоей милости ручался, а если б не так уговаривал, то все бы отчаялись за свое плутовство и на большее худо вдались; ко мне всем городом приходили не по один день и прощения просили, что меня били и бесчестили и били на меня челом ложно».
Царь отвечал: «То ты, богомолец наш, делал и исполнял Господню заповедь, св. апостол и св. отец предание, ревнуя по истинной Христовой вере, ревнуя прежним святителям и хвалы достойному новому исповеднику, Ермогену патриарху. И мы, великий государь, тебя за твое раденье и крепкое стоянье и страданье милостиво похваляем; и тебе бы и вперед ко всесильному Богу обеты свои исполнять и добрым делам ревнителем быть, как начал, так бы и совершал». Как крамольники ни старались, как ни хлопотали, чтобы скрыть от царя произведенный мятеж и чтобы если не всю вину свалить на других, то, по крайней мере, ослабить свою виновность, однако ж, мало верили в то, что вести об их мятеже не дошли до царя, и еще менее того рассчитывали на то, что челобитные их имели успех. Одна беда родит другую – так было и с ними. Страшась справедливого наказания и желая укрыться от гнева законного царя, они решились на отчаянную меру – положили сдать город Швеции или Польше. Замысел их уже готов был созреть и исполниться; но дальновидный и мудрый Никон дал делу другой оборот. Несмотря на все меры, какие приняты были бунтовщиками, чтобы пресечь сообщение с Москвой, Никон нашел средство известить царя о возмущении новгородцев и об их намерении отдаться под покровительство польского или шведского короля. Спасая воеводу в своих келлиях, он с нарочным надежным человеком отправил к царю тайными путями грамоту, в которой подробно описал весь ход возмущения новгородцев, затем овладевший ими страх гнева царского, и, наконец, намерение отдаться в подданство Швеции или Польше. Глубоко поражен был царь этой вестью о возмущении своих подданных и о страданиях своего друга митрополита.
Чтобы утешить его в скорбях, царь немедленно написал к нему от себя грамоту и отправил с тем же гонцом. Чувства признательности, любви и преданности царя к Никону вполне выразились в этой грамоте, где он называл Никона «новым страстотерпцем, исповедником и мучеником». В то же время и с тем же гонцом отправил царь грамоту «в земскую избу ко всему Новаграда народу, дабы они познавше свою вину таковую, аще не хощут смерти вси предани быти, у преосвященнаго митрополита милости просили б прощения и отпущения во всем преднем согрешении, только бы вящших возмутителей выдали б головою ему ж преосвященному; и аще он преосвященный митрополит их прощения сподобит, то и его великого государя к ним в том милость, и их вины отпущены им будут; и аще тако не сотворят, то вскоре смерть примут». Пока все это происходило в Москве, более благоразумные из новгородцев, увлеченные прежде общим потоком возмущения, но теперь сознавшие свою вину, стали приходить к Никону со слезами раскаяния. Испрашивая у него прощения в своем против него согрешении, они в то же время всецело отдавались в его волю, только бы он заступился за них пред государем и испросил им помилование. Они хорошо знали, как много значит слово Никона на суде царя – друга его.
Никон, как добрый пастырь, всегда готовый положить свою душу за ближнего, принял их незлобиво, как детей, обратившихся от буйства к покорности, оплакивал вместе с ними прежнее их заблуждение, простил их и разрешил со своей стороны, как архипастырь; но дальнейшее объявление милости отлагал до получения грамоты от царя. Но вот разнеслась весть по городу, что грамота от царя получена. Бесчисленные толпы собрались пред земской избой в ожидании решения своей участи. Грамота прочитана: ужас смерти поразил всех, но оставался еще луч надежды в том, что государь все дело отдал на волю милостивого Никона, который должен был наказывать виновных и миловать невинных. Все устремились к дому митрополита: тысячи голосов раздавались теперь в слух Никона: «Прости нас, прости нас!» Никон обещал им прощение, но только под тем условием, если они выдадут гражданской власти всех главнейших виновников мятежа. Народ с готовностью обещал исполнить это требование и более 300 человек заключил в темницу. Между тем мудрый архипастырь, воспользовавшись благоприятным для назидательного слова его расположением своих пасомых, три часа поучал их из Священного Писания и отцев Церкви воздерживаться от свирепых, наглых и возмутительных поступков. «Молитеся, – заключил он свое наставление, – да не внидете в напасть» [Лк. 22, 40], «да некогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведнаго, егда возгорится вскоре ярость его: блажени вси надеющиися нань» (Пс. 2, 12). Народ плакал от раскаяния и умиления. Со слезами на глазах проповедовал и архипастырь, во всем готовый спострадать своей пастве. Преподав надлежащее вразумление народу, Никон тут же торжественно объявил ему прощение в содеянном против него согрешении, разрешил от клятвы, благословил и в то же время обещал испросить им милость от великого государя.
С восторгами радости и признательности к своему архипастырю возвратились все по домам, и тишина водворилась по всем концам Новгорода. Вообще, в укрощении бунта Новгородского митрополит Никон действовал как истинно великий христианский святитель и в то же время как мудрый политик. Для усмирения бунта и сыска бунтовщиков был прислан с войском князь Хованский. Розыски производились с 24 апреля по 7 мая; всех виновных объявилось 212 человек, и во главе их Волк, которому отсечена была голова на площади, потом староста Андрюшка Гаврилов, Елисейка Лисица, Ивашка Жеглов, Игнашка Молодожников (казненные), Никифорка Хамов (бит кнутом), Степка Трегуб, Панкрашка Шмарь, площадный подьячий Нестерко Микулин с сыном Гаврилкою, площадный подьячий Аханашков (сосланы в заточение). Хованский хотел устроить тюрьму и посажать туда всех оговоренных; но 13 мая к Никону в соборную церковь собрались стрельцы с женами и детьми и били челом, чтоб государь их пожаловал, не велел оговоренных товарищей их стрельцов, которые у них на поруках, в тюрьму сажать, а дать бы им наказание, кто чего достоин, да и отпустить. Никон послал за Хованским и сказал ему: «Прислана государева грамота, велено тебе со мною государево дело ведать: так моя мысль, что надобно исполнить просьбу стрелецкую потому: если всех оговоренных людей посажать в тюрьму, то они все будут ждать смертной казни; услышат о том псковичи и будут думать, что все виновные посажены в тюрьму на смерть, тогда государеву делу поруха будет». Хованский согласился, и большинство оговоренных отдано было на поруки.
Затем, когда дошло до Никона, что в Москве недовольны медленностью Хованского, он написал государю: «Ведомо мне учинилось, что прислана твоя государева грамота к твоему боярину князю Ивану Никитичу Хованскому, а в ней написано, что боярин твоим государевым делом промышляет мешкотно; но твой государев боярин твоим делом радеет и промышляет неоплошно, да и я ему говорил, чтоб тем делом промышлять не вскоре, с большим рассмотрением, чтоб твое дело всякое сыскалось впрямь; от этого дело и шло медленно, а не по боярскому нерадению; вскоре было такого великаго дела сыскать нельзя, а здесь, государь, приходит дело в совершенье работою боярина князя Ивана Никитича Хованскаго, и работал он тебе тихим обычаем, не вдруг, чтоб не ожесточились; а что промедлилось и в том твоему государеву делу порухи нет: худые всяких чинов люди в сыску; а мешкалось дело и для Пскова».
Немалое участие принимал Никон, чтобы остановить в то же время и бунтовавшихся псковичей. Еще в начале мая посылал он Софийского дома стряпчего Богдана Сназина уговаривать псковичей, чтобы вины свои государю принесли. Сназина у городских ворот схватили караульщики и привели во всегородскую избу к выборным людям, посадскому человеку Гавриле Демидову и к дворянину Ивану Чиркину с товарищами. Выборные взяли у Сназина грамоты, распечатали, прочли и велели бить в сполошный колокол; народ сошелся к избе, и ему начали читать митрополичьи грамоты. Выслушав, псковичи стали бранить митрополита невежливыми словами всячески: «Его мы отписок не слушаем, будет с него и того, что Новгород обманул, а мы не новгородцы, повинных нам к государю не посылывать, и вины над собою никакой не ведаем». Сназина сначала сковали, потом отпустили с ответом, чтоб митрополит к ним впредь не писал и никого не присылал, а кого пришлет, тому спуску не будет.
Никон, убедившись, что заводчики мятежа слишком сильны во Пскове, и видя, что недостаток энергических мер со стороны Москвы только длит войну и разоренье, написал к государю: «Мне, богомольцу твоему, ведомо учинилось, что у псковичей учинено укрепленье великое и крестное целованье было, чтоб друг друга не выдавать, а те четыре человека, которых велят им выдать, во Пскове владельцы и во всем их псковичи слушают; а если псковские воры за этих четырех человек станут, и для четырех человек твоя вотчина около Пскова и в Новгородском уезде, в Шелонской и Воцкой пятинах и в Луцком уезде и в Пустой Ржеве разорится: многие люди, дворяне и дети боярские, их жены и дети посечены и животы их пограблены, села и деревни пожжены, а иные всяких чинов люди подо Псковом и на дорогах побиты, а я с архимандритами, игуменами и с новгородцами посадскими людьми и крестьянами, подводы нанимая дорогою ценою под ратных людей и под запасы, в конце погибели, твоя отчина пустеет, посадские людишки и крестьянишки бредут врознь. Вели, государь, и тем четырем человекам, пущим ворам, вместо смерти живот дать, чтоб великому Новгороду и его уезду в конечном разореньи не быть. А тем промыслом Пскова не взять; которые люди подо Псковом, и тех придется потерять, а Новгороду от подвод и ратных людей будет запустенье. А я, уговаривая Новгородцев, дал им свое слово, что тебе государю за их вину бить челом, и потому Новгороду и твоей казне убытка и людям порухи никакой не было; да и впредь мне о всяких твоих государевых делах говорить с новгородцами надежно и постоятельно. А как приехал в Новгород боярин князь Иван Никитич Хованский, и он новгородцам божился, что им никакой жесточи за их вину не учинится; а теперь псковичи, слыша, что воры сидят в Новгороде в тюрьмах, боясь того же, никакому увещанию не верят, на новгородских воров, тюремных сидельцев, указывают: и нам то же будет».
Государь вполне оценил заслуги Никона, который с самоотвержением истинного пастыря действовал к усмирению страшного новгородского восстания. «Избранному и крепкостоятельному пастырю, – писал впоследствии царь к Никону, – милостивому, кроткому, благосердому, беззлобивому, но и паче же любовнику и наперснику Христову, и рачителю словесных овец; о, крепкий воине и страдальче Царя Небеснаго, о, возлюбленный мой любимиче и содружебниче святый владыко! Пишу тебе светло-сияющему во архиереях, аки солнцу сиящу по всей вселенней, тако и тебе сияющу по всему нашему государству благими нравы и делы добрыми... собинному нашему другу душевному и телесному». В данном случае тем большей цены заслуживал подвиг Никона, что подобное же возмущение во Пскове имело совсем не тот исход, какой оно имело в Новгороде. Когда все утихло в Новгороде и Пскове, Никон в 1651 г. был вызван в Москву. В бытность его здесь 19 января 1652 г. происходило открытие мощей преподобного Саввы Звенигородского. Глубоким благоговением к новоявленному угоднику и судьбам промысла Божия проникнуты были сердца всех, предстоявших гробу нового чудотворца. Здесь был и сам царь с многочисленною свитою из вельмож. Митрополит Никон, сослуживший Иосифу при открытии св. мощей, воспользовался умилением царя, чтобы предложить ему свою мысль о перенесении в Московский Успенский собор патриархов Иова и Гермогена и св. митрополита Филиппа. Торжество это имело не одно религиозное значение.
Проницательный Никон ясно видел, что в его время должны повториться подвиги доблестных поборников Церкви и Отечества – св. митрополита Филиппа и патриархов Иова и Гермогена. Преемник одушевлявшей их ревности, Никон желал, чтобы они почивали блаженными останками своими в виду недоброжелателей Церкви и, обличая их, поощряли на подвиг самоотвержения тех, кого поставил «Дух Святый пасти церковь Господа и Бога, юже стяжа кровию своею». Особенно он просил возвратить в первопрестольный город мощи св. Филиппа. Св. Филипп погиб вследствие столкновения власти светской с церковною; он был низвергнут царем Иоанном за смелые увещания, умерщвлен опричником Малютою Скуратовым. Бог прославил мученика святостию; но светская власть не принесла еще торжественного покаяния в грехе своем и этим покаянием не отказалась от возможности повторить когда-либо подобный поступок относительно власти церковной. Никон, пользуясь религиозностью и мягкостью царя, заставил светскую власть принести это торжественное покаяние. Он представил государю, что перенесением в Москву мощей святителя Филиппа царь загладит вину прадеда своего, и указал на пример Феодосия младшего, который писал молитвенную грамоту к оскорбленному его матерью святому Иоанну и который перенесением мощей святого Златоуста из Коман сделал свое имя в церкви незабвенным, а матери своей Евдокии, виновнице изгнания святителя, исходатайствовал прощение.
С сердечным умилением выслушал благочестивый царь эту трогательную для души его просьбу Никона и тогда же дал ему свое согласие. Марта 20 в Москве собран был Собор из русских святителей и знатнейшего духовенства московского, под председательством патриарха Иосифа, в присутствии самого государя. Благочестивый царь Алексей Михайлович предложил вниманию архипастырей святое намерение и желание свое касательно перенесения мощей доблестных первосвятителей России, почивавших, по судьбам Божиим, вне первопрестольного града. «Я сокрушаюсь сердцем, – говорил государь, – что доблестные ревнители церкви и отечества почивают не в храме Успения Пресвятой Богородицы вместе с собратами своими и пламенею желанием перенести останки их в первопрестольный храм их паствы». «Митрополит Филипп, – продолжал царь, несколько раз являлся мне во сне и говорил: «Я долго лежу вдалеке от гробниц собратий моих, митрополитов; пошли за мною и перенеси меня в их среду». «И так, – заключил царь, – давно уже имею желание взять оттуда мощи св. Филиппа и перенести в Успенский собор». Собор святителей не только изъявил согласие на благочестивое предложение царя, но и со слезами радости благодарил монарха за святую его любовь к памяти святых и блаженных иерархов Всероссийских. И так в тот же день торжественно перенесены были священные останки доблестного патриарха Гермогена из Чудова монастыря в первопрестольный храм Московских святителей и поставлены поверх земли, подле медного шатра ризы Господней. Бесчисленное стечение народа предшествовало и сопутствовало гробнице, скрывавшей тело ревностнейшего защитника Веры и Отечества в бедственную годину государства Московского. Со слезами умиления воздавали эту честь блаженному первосвятителю патриарх Иосиф и благочестивый царь.
Тогда же в Старицу, за мощами блаженного патриарха Иова, отправлен Ростовский митрополит Варлаам, маститый старец, подобный самому Иову, с многочисленной свитой из духовных и светских лиц. Апреля 8 незабвенный своими подвигами патриарх Иов явился опять торжественно в Москву, куда некогда с подобным же торжеством вызвал его из безмолвного убежища на кафедру св. Петра царь Василий Иоаннович Шуйский. Стечение народа было так многочисленно, что едва находили себе путь духовенство и сановники, сопровождавшие гробницу патриарха. За святыми мощами митрополита Филиппа в Соловецкий монастырь отправился Никон, как постриженец Соловецкого монастыря, где и сам св. Филипп принимал некогда иноческий сан и был игуменом. В спутники Никону назначен был боярин, князь Никита Иванович Хованский, с многочисленною свитою. С радостью отправился Никон в Соловки, отслужив в Успенском соборе напутственный молебен Господу Богу в присутствии государя. Патриарх Иосиф благословил его в путь. Царь вручил ему грамоту к св. мощам Филиппа, написанную в подражание молитвенного послания, какое царь греческий Феодосий писал к мощам св. Иоанна Златоустого, когда переносил их из Коман в Константинополь. «Ничто столько не печалит души моей, – писал царь, – пресвятый владыко, как то, что ты не находишься в нашем богохранимом царствующем граде Москве, во святой соборной церкви Успения Пресвятыя Богородицы, вместе с бывшими до тебя и по тебе святителями, чтобы, ради ваших совокупных молитв, всегда неподвижно пребывала святая соборная и апостольская церковь и вера Христова, которою спасаемся. Молю тебя, приди сюда и разреши прегрешение прадеда нашего, царя и великаго князя Иоанна, совершенное против тебя неразсудно, завистию и несдержанною яростию. Хотя я и неповинен в досаждении тебе, но гроб прадеда приводит меня в жалость, что ты со времени изгнания твоего и доселе пребываешь вдали от твоей святительской паствы. Преклоняю пред тобою сан мой царский за согрешившаго против тебя, да отпустишь ему согрешение своим к нам пришествием, и да упразднится поношение, которое лежит на нем за изгнание тебя. Молю тебя о сем, о священная глава, и преклоняю честь моего царства пред твоими честными мощами, повергаю на умоление тебя всю мою власть... Оправдан Евангельский глагол, за который ты пострадал: всяко царство, раздельшееся на ся, не станет (Мф. 12, 25), и нет более теперь у нас прекословящаго твоим глаголам, благодать Божия теперь в твоей пастве изобилует, нет уже более в пастве твоей никакого разделения: все единомысленно молим тебя, даруй себя желающим тебя, приди с миром восвояси, и свои тебя с миром примут; приди к нам св. владыко». Никону поручено было прочитать эту грамоту в церкви, над гробницей святителя, в слух всего народа.
Почти с каждого места, где делалась остановка, для отдыха от путевого утомления, Никон посылал уведомления государю о своем здоровье и успешном путешествии, и царь, в свою очередь, извещал Никона о том, что происходило в Москве. Эту переписку, как имеющую особенный интерес, мы поместим в своем месте. Св. Пасху Никон проводил в Вологде и потом пустился в открытое море. Плавание это было не безбедственно: лишь только путешественники вышли из устья Онеги, поднялась сильная буря, как бы в предзнаменование той бури, которую Никон должен был впоследствии потерпеть, подобно святителю Филиппу, за нетленными останками которого он теперь шествовал. Одно из судов, на котором плыл дьяк, погибло без вести, многие разбились о подводные камни, остальные были сильно повреждены. Судно Никона и в этот раз принесло к острову Кию, на котором он нашел себе пристанище, как и в первый раз, когда плыл отшельником из Анзерского скита. Теперь Никон повторил свой обет – воздвигнуть здесь монастырь. Между тем по разным местам отправлены были нарочитые люди отыскивать рассеянных бурею спутников. И когда они собрались на остров Кий, Никон пустился в дальнейший путь. Наконец 3-го июня благополучно прибыли к месту назначения – в Соловецкий монастырь. Неописанной радости наполнилось сердце Никона, когда он опять увидел ту пустыню, где в безмятежии и тишине уединенной своей келлии, среди шума волн морских, но далекий от бурь житейских, с легкостью орла возносился умом и сердцем своим к Богу, ведущему все тайны сердец.
По вступлении в обитель Никон вручил архимандриту и братии указ царский и патриарший, повелевавший им с честью отдать ему св. мощи митрополита Филиппа, и при этом изъяснил, что «в мимошедшая лета, в царствование блаженной памяти царя Иоанна Васильевича, преосвященный Филипп, правивший тогда русскою церковию, подвергся, по ненависти и обаянию неправедных мужей, гневу великого государя и был неповинно осужден смертию безобразною; ныне же благочестивый царь Алексей Михайлович, уведав, что сей, ради правды изгнанный и пострадавший, вменен в сынах Божиих, вознамерился, по совещанию с благоверною своею царицею и с отцем своим святейшим патриархом, возвратить мощи св. митрополита Филиппа в свой царствующий град, да водворится опять на первопрестолии своем, в дому Пресвятыя Богородицы, и да разрешит своим пришествием грехи прадеда его царя Иоанна. Послал же их государь во св. обитель и велел своим богомольцам, купно с братиею Соловецкою, молить о том Христа Бога и св. отца Филиппа, чтобы Господь Бог повелел, а св. Филипп соизволил в царствующий град прийти на престол своего святительства». После сего митрополит Никон приблизился к священной раке и вложил в руку чудотворца молебные к нему послания от царя и патриарха. Неописанной скорби исполнились сердца соловецких иноков при вести, что они должны расстаться со св. мощами Филиппа, бывшего некогда игуменом этой самой обители; но, зная, что сердце царя в руце Божией, смиренно покорились его указу. Три дня постились и молились, на четвертый – 7 июня – Никон совершил в соборном храме обители всенощное бдение со всею торжественностью, приличною великим праздникам.
На другой день, после литургии, которую созерцал также сам Никон, открылось в обители умилительное и трогательное зрелище. Началось чтение молебного послания царя к мощам святителя, подобное тому, какое писал некогда юный император греческий Феодосий к мощам другого знаменитого изгнанника, св. Златоуста, о разрешении вины родительской, когда возвращал его из дальних Коман, из заточения, в царствующий град. «Христову подражателю, небесному жителю, – так начиналось молебное послание царя, – вышеестественному и плотскому ангелу, преизящному и премудрому и духовному учителю нашему, пастырю же и молитвеннику, великому господину, отцу отцев, преосвященному Филиппу, митрополиту Московскому и всея Руси. По благоволению Вседержителя Христа Бога царь Алексей, чадо твое, за молитв святых твоих здравствует. Ничто такой печали не творит моей душе» и проч. (см. выше). Сколько веры и усердия в этом умилительном послании кроткого царя! И что дивного, если все предстоявшие были, как описывал это Никон в своем письме к царю, в великом умилении, когда призвал он иноков на слушание двух посланий государя и патриарха к раке святителя Филиппа. Стоны и рыдания братии и многочисленного народа заглушали голос Никона; и сам он не мог читать от плача, когда молил святителя соизволить идти с ним в царствующий град.
Все плакали о лишении столь великой заветной святыни своей. Обитель, которая некогда лишалась св. своего игумена еще при жизни его, когда грозный царь вызывал его в Москву для постановления в митрополита всей России, теперь должна была в другой раз лишиться своего пастыря, по случаю перенесения в Москву нетленных мощей его. По прочтении пред угодником царского послания начался молебен, после которого священнослужители приступили к священной раке, покоившей св. мощи Филиппа, чтобы поднять ее на рамена и препроводить уже на приготовленное судно, которое должно было отплыть с этим драгоценнейшим сокровищем русского благочестия. Тогда братия соловецкая с грустью в душе воспела над гробом святителя нарочно на этот раз составленный гимн: «Не подобало бы тебе, о святитель Филипп, оставлять свое отечество! Но должно к нам возвратиться, где ты духовно породился, где ты понес труды равнообразныя богоносным отцам, и где, наконец, воздвиг ты великолепные храмы во спасение иноков и к славословию Творца. Моли Того, помолись Тому о спасении душ наших». Затем все приступили к отходящему от них святителю, чтобы в последний раз облобызать св. десницу в вечное себе благословение. Наконец, поднявши раку со св. мощами, поставили ее на одр и, покрыв царскими покровами, с подобающей честью понесли из церкви при пении псалмов, со свечами и кадилами, при общем звоне, к морскому берегу, где стояло приготовленное для них судно. Вопли и рыдания умножились. «Мнози, – писал Никон царю, – путем от плача и слез изнемогше, яко ни путем идти могуще или видяще где, но валяющеся семо и овамо, яко объюродевше, ови от радости, овиж от жалости, и согласом рыдающе; воистинну жалости тоя подробно словом сказати не мощно».
Солнце ярко блистало на драгоценных утварях и облачениях церковных; воздух, оглашаемый воплями и рыданиями, был наполнен благоуханием от св. мощей и от фимиама. Еще раз братия обители и народ воздали благоговейное поклонение св. мощам, и судно скрыло священную гробницу в своих недрах. В утешение скорбной братии и на благословение Соловецкой обители оставлена была в ней часть св. мощей святителя Филиппа. Возвратясь в обитель и учредив братию на трапезе царским жалованьем, только к вечеру отплыли от монастыря и за пять верст остановились в Заяцкой пристани, которую некогда устроил сам святитель Филипп для обуреваемых. Тут простояли два дня в ожидании погоды; на рассвете следующего дня (10 июня) пустились в дальнейший путь и благополучно достигли Онежского устья, откуда Никон писал первое из шести своих донесений к царю. В тот же день поплыли они вверх по реке Онеге и 20 вечером достигли Каргополя, где игумен с братиею и все православные христиане далеко за городом встретили св. мощи. На другой день после литургии митрополит Никон поднялся со святыми мощами и продолжал путь реками же и озерами на Волок на Коротке; отсюда пустились вниз по Шексне, до дворцового села Рыбного на Волге, где ныне город Рыбинск. Вверх по Волге до Калязина, как было сказано в царской грамоте, нельзя было плыть по мелководью, и потому решились спуститься по реке до Ярославля. Думал ли Никон, что через 30 лет поплывет он тем же путем, уже дряхлый и болезненный старец, из долгого заточения и что в Ярославле также будет предел не только плаванию, но и земной его жизни. Отсюда, не теряя времени, Никон продолжал путь через Переяславль Залесский в Сергиеву лавру, куда и прибыл 4-го июля; там поставили св. мощи в соборе Живоначальныя Троицы; Никон служил молебен за царское здравие и Божественную литургию и двинулся дальше до села Воздвиженского, где встретил его стольник царский с повелением ожидать указа государева в лавре. Видно, что Никон много потерпел во время путешествия; так он выражается в последней грамоте к царю: «По Божию смотрению, во избранных паче иных верховному в царях, многонаказанный от Бога за грехи в морских бедах, богомолец твой, смиренный Никон митрополит, Бога молю и вместо дарования, с подобающим поклонением честному твоему царствию, доброе приношу извещение о св. священномученике и исповеднике преосвященном Филиппе митрополите, что благодатию Божиею и его благословением, ныне пребывает в царском дворе в селе Воздвиженском, под подвижным покровом в шатре; а в деревянной церкви, по многонародному собранию и не искусному свеч поставлению, вносить не смеем, чтобы святому и великому делу не было какой-либо порухи».
Там решился он ожидать государева указа. Это был последний стан со св. мощами. Православные повсюду с крестами и хоругвями выходили навстречу шествующей святыне, так что во весь путь от Соловецкой обители до Москвы продолжалось одно необычайное и умилительное торжество. Между тем в столице благочестивый царь готовил великолепную встречу. Рано утром 9-го июля весь путь от Кремля до нынешней Крестовской заставы занят был толпами народа. Из Успенского собора шел крестный ход, сопровождаемый старцем – митрополитом Варлаамом, за ним царь, окруженный всем блеском своего двора... Кресты были у напрудной слободы, когда показалось шествие со св. мощами, которое остановилось у часовни, подле Троицкой приходской церкви... Но в эту минуту произошло необычайное событие. Ветхий старец митрополит Варлаам, несмотря на все убеждения царя остаться в соборе, хотевший принять участие в церковном торжестве, изнемог от летнего жара и тяжелого облачения; уже в нескольких шагах от раки чудотворца не мог он идти далее и велел подать себе кресла, взглянул на приближающиеся мощи и скончался. Государь, приняв последний его вздох, спешил навстречу святому, пал пред ним на землю и благодарил Господа, давшего ему узреть мощи св. угодника. Благословившись у митрополита Никона, с некоторыми из своих приближенных людей поднял он на главу драгоценное бремя и велел продолжать шествие в царствующий град; за св. мощами понесли и усопшего Варлаама.
Св. мощи были поставлены сначала на Лобном месте, потом перенесены в Успенский собор, где стояли десять дней для благоговейного поклонения и лобзания их благочестивым народом московским. Во все это время Никон, как гробовой страж, стоял подле чудотворного гроба, читал молитвы над бесноватыми, возлагал на них руки и благословлял людей во имя святителя Филиппа. Наконец св. мощи переложены в новую богатую раку и поставлены на правой стороне собора у придела великомученика Димитрия Солунского. Празднество закончилось обильною трапезою в палатах государя для всего освященного собора и бояр. Трогательное описание шествия сохранилось в грамоте самого царя к воеводе Казанскому, князю Одоевскому. В этом описании он рассказывает о чудесах от мощей угодника, какие совершились во время их перенесения, ублажает страдальцев правды, порицает гонителей их и между прочим пишет: «А мы, великий государь, ежедневно просим у Создателя и всещедраго Бога нашего и у Пречистой Его Богоматери и у всех святых, чтобы Господь Бог ради Ея прошения и их святых молитв, даровал бы нам, великому государю, и вам боярам с нами единодушно, людей Его разсудить в правде, всех равно, ибо писано, что суд Божий никогда крив не живет, и о всех христианских душах поболение нам иметь, и в вере крепкими и в истине, как столпам, стоять твердо и за нее страдать до смерти во веки и на веки».
Приводим здесь весьма интересную переписку царя Алексея Михайловича с митрополитом Никоном во время путешествия его в Соловки за мощами святителя Филиппа. В этой переписке царь простосердечно рассказывает о том, что происходило в Москве в 1652 г. во время отсутствия Никона, рассказывает о своих отношениях к вельможам, патриарху и особенно к самому Никону, и своим рассказом немало знакомит с тогдашним веком и с тогдашним обществом. «От царя и великаго князя Алексея Михайловича всея Руси, великому солнцу сияющему, пресветлому богомольцу и преосвященному Никону, митрополиту Новгородскому и Великолуцкому, от нас, земнаго царя, поклон. Радуйся, архиерей великий, во всяких добродетелях подвизающийся! Как тебя, великаго святителя, Бог милует? А я грешный твоими молитвами дал Бог здоров. Не покручинься, Господа ради, что про Савинское дело не писал тебе, а писал и сыск послал к келарю: ей позабыл, а тут в один день прилучились все отпуски, а я устал, и ты меня, владыко святый, прости в том; ей без хитрости не писал к тебе. Да пожаловать бы тебе великому святителю помолиться, чтоб Господь Бог умножил лет живота дочери моей, а к тебе она святителю крепко ласкова; да за жену мою помолиться, чтоб, ради твоих молитв, разнес Бог с ребеночком; уже время спеет, а какой грех станется, и мне, ей, пропасть с кручины; Бога ради, молись за нее. Да буди тебе, великому святителю, ведомо: многолетие у нас поют вместо патриарха: спаси Господи вселенских патриархов, и митрополитов, и архиепископов наших, и вся христиане, Господи, спаси; и ты отпиши к нам, великий святитель, так ли надобно петь, или иначе как-нибудь, и как у тебя святителя поют»? Любопытно видеть здесь, как царь просит прощения у митрополита Никона в том, что не писал ему про какое-то Савинское дело, клянется, что сделал это без хитрости; значит, что обо всех духовных делах царь считал своей обязанностью уведомлять Новгородского митрополита.
Другое письмо, более любопытное, начинается так: «Избранному и крепкостоятельному пастырю и наставнику душ и телес наших, милостивому, кроткому, благосердому, беззлобивому, наипаче же любовнику и наперснику Христову и рачителю словесных овец. О крепкий воин и страдалец Царя Небеснаго, и возлюбленный мой любимец и содружебник, святый владыко! Моли за меня грешнаго, да не покроет меня глубина грехов моих, твоих ради молитв святых; надеясь на твое пренепорочное и беззлобивое и святое житие, пишу так светло-сияющему в архиереях, как солнцу, светящему по всей вселенной, так и тебе сияющему по всему нашему государству благими нравами и делами добрыми, великому господину и богомольцу нашему, преосвященному и пресветлому митрополиту Никону Новгородскому и Великолуцкому, особенному нашему другу душевному и телесному. Спрашиваем о твоем святительском спасении, как тебя света душевнаго нашего Бог сохраняет; а про нас изволишь ведать, и мы, по милости Божией и по вашему святительскому благословению, как есть истинный царь христианский нарицаюсь, а по своим злым мерзким делам не достоин и во псы, не только в цари, да еще и грешен, а называюсь Его же светов раб, от кого создан; а вашими святыми молитвами, мы и с царицею, и с сестрами, и с дочерью, и со всем государством дал Бог здорово. Да будь тебе великому святителю ведомо: за грехи всего православнаго христианства, особенно же за мои окаянные грехи, Содетель и Творец Бог наш изволил взять от здешняго прелестнаго и лицемернаго света отца нашего и пастыря, великаго господина Кир Иосифа, патриарха Московскаго и всея Руси, изволил его вселить в недро Авраама, и Исаака и Иакова; и тебе бы, отцу нашему, было ведомо; а мать наша соборная и апостольская церковь вдовствует, слезно сетует по женихе своем, а как в нее войти и посмотреть, и она, мать наша, как есть пустынная голубица пребывает, не имеющая подружия: так и она, не имея жениха своего, печалится; и все переменилось не только в церквах, но и во всем государстве; духовным делам разсуждения нет, и худо без пастыря детям жить. Как начали у меня (в великий четверток) вместо херувимской первый стих Вечере Твоей тайне петь, и пропели первый стих, прибежал келарь Спасский и сказал мне: «Патриарха, государь, не стало! а в ту пору ударил царь-колокол три раза, и на нас такой страх и ужас нашел; едва петь стали, и то со слезами, а в соборе у певчих и властей всех со страха и ужаса ноги подломились, потому что, кто преставился? да к таким дням великим кого мы грешные отбыли? как овцы без пастуха не ведают, где деться, так и мы теперь грешные не ведаем, где главы приклонить, потому что прежняго отца и пастыря лишились, а новаго нет. Отпевши обедню, пришел я к нему свету, а он государь уже преставился, лежит как есть жив, и борода разчесана лежит как есть у живаго, а сам не мерно хорош; и простясь с ним и поцеловав руку, пошел я к умовению ног. В пятницу вынесли его света к Риз-Положению. Я вечером пошел один к Риз-Положению, и как подошел к дверям полунощным, а у него никакого сидельца нет, кому велел быть игумнам, те все разъехались, и я велел смирить митрополиту; да такой грех, владыко святый, кого жаловал (покойный), те ради его смерти, лучший Новинский игумен – тот первый поехал от него домой, а детей боярских я смирял, сколько Бог помочи дал; а над ним один священник говорит псалтирь, и тот говорит, во всю голову кричит, а двери все отворил; и я начал ему говорить: «Для чего ты не по подобию говоришь»? «Прости государь, – отвечал он, – страх нашел великий, в утробе у него святителя безмерно шумело, так меня и страх взял: вдруг взнесло живот у него государя и лицо в туж пору стало пухнуть: меня и страх взял, думал, что ожил, для того я и двери отворил, хотел бежать». И на меня, прости, владыко святый, от его речей страх такой нашел, едва с ног не свалился; а вот и при мне грыжа-то ходит очень прытко в животе, как есть у живаго, и мне пришло помышление такое от врага: побеги ты вон, тотчас тебя вскоча ударит! и я, перекрестясь, взял за руку его света и стал целовать, а в уме держу то слово: от земли создан, и в землю идет, чего бояться? Да в туж пору как есть треснуло у него в устах, и я досталь испужался, да поостоялся, так мне полегчело от страха, да тем себя и оживил, что за руку его с молитвою взял. А погребли в субботу великую, и мы надселись, плачучи, а меня перваго грешнаго, мерзкаго, которая мука не ждет? Ей, все ожидают меня за злыя дела, и достоин я окаянный тех мук за свои согрешения; а бояре и власти тоже все говорили между собою; не было такого человека, который бы не плакал, на него смотря, потому: вчера с нами, а ныне безгласен лежит, и это к таким великим дням стало! И которые от ближних были со мною, все перервались плачучи, а всех пуще Трубецкой, да Михайла Одоевский, да Михайла Ртищев, да Василий Бутурлин плакали по нем государе, что Бог изволил скорым обычаем взять, и свои грехи вспоминаючи. Да сказывал мне Василий Бутурлин, а ему сказывал патриархов дьяк: мнение на него государя великое было, то и говорил: «Переменить меня, скинуть меня хотят, а если и не отставят, то я сам от срама об отставке стану бить челом; и денег приготовил с чем идти, как отставят, безпрестанно то и думал и говаривал, а неведомо от чего? У меня и отца моего духовнаго, Содетель наш Творец видит, ей, и на уме того не бывало, и помыслить страшно на такое дело; прости, владыко святый, хотя бы и еретичества держался, и тут мне как одному отставить его без вашего собора? Чаю, владыко святый, хотя и в дальнем ты разстоянии с нами грешными, но тоже скажешь, что отнюдь того не бывало, что его света отставить или ссадить с безчестием. А келейной казны у него государя осталось 13400 руб. с лишком, а сосудов серебряных, блюд, сковородок, кубков, стоп и тарелок много хороших; а переписывал я сам келейную казну, а если бы сам не ходил, то думаю, что и половины бы не почему сыскать, потому что записки нет; не осталось бы ничего, все бы раскрали; редкая та статья, что записано, а то все без записи; сам он государь ведал наизусть, отнюдь ни который келейник сосудов тех не ведал; а какое, владыко святый, к ним строенье было у него, государя, в ум мне грешному не вместится! Не было того сосуда, чтобы не впятеро оберчено бумагою или киндяком! Да и в том меня, владыка святый, прости: не много и я не покусился на иные сосуды, да милостию Божиею воздержался и вашими молитвами святыми; ей, ей, владыка святый, ни до чего не дотронулся, мог бы я и вчетверо цену дать, да не хочу для того, что от Бога грех, от людей зазорно: какой я буду прикащик? самому мне брать, а деньги мне платить себе же? А теперь немерно рад, что ни до чего не дотронулся. Всяким людям, которые были у патриарха на жалованье, давал из своих рук по десяти рублей; собирал я их в крестовую и говорил со слезами, чтоб поминали и не роптали; и они все плакали и благодарили; и говорил им я, чтоб поклонцев по силе или по кануну на всяк день говорили; да и то я им говорил: есть ли между вами такой, кто б раба своего или рабыню мимо дела не оскорбил, иное за дело, а иное и пьян напившись, оскорбит и напрасно бьют; а он, великий святитель, отец наш, если кого и понапрасну оскорбил, можно и потерпеть, да уже чтоб то ни было, теперь пора всякую злобу покинуть, молитесь и поминайте с радостью его света, сколько сила может. А не дать было им и не потешить деньгами, поднялось бы роптание большое, потому что в конец бездны, и он свет у них жалованья гораздо много убавил. Да еще буди тебе, великому святителю ведомо: во дворец посадил я Василья Бутурлина: а князь Алексей бил челом об отставке, и я его отставил; а слово мое теперь во дворце добре страшно и делается без замедления. Да ведомо мне учинилось: князь Иван Хованский пишет во своих грамотах, будто он пропал, и пропасть свою пишет, будто ты его заставляешь с собою у правила ежедневно быть; да и у нас перешептывали на меня: никогда такого безчестия не было, что теперь государь нас выдал митрополитам; молю я тебя, владыко святый, пожалуй не заставляй его с собою у правила стоять: добро, государь, учить премудра, премудрее будет, а безумному мозолие ему есть, да если и изволишь ему говорить, и ты говори ему от своего лица, будто к тебе мимо меня писали, а я к тебе, владыка святый, пишу духовную. Да Василий Отяев пишет к друзьям своим: «Лучше бы нам на Новой Земле за Сибирью с князем Иваном Ивановичем Лобановым пропасть, нежели с Новгородским митрополитом быть, силою заставляет говеть, но никого силою не заставишь Богу веровать». И тебе бы, владыка святый, пожаловать, сие писание сохранить и скрыть втайне, и пожаловать тебе, великому господину, прочесть самому, не погнушаться нас грешных и нашим рукописанием непутным и несогласным».
Это письмо как нельзя лучше объясняет те отношения, в каких находился царь к митрополиту Никону и в каких Никон к государю и государству. Алексей Михайлович так высоко ценил и так высоко поставил митрополита Никона, как высоко не стоял ни один патриарх, ни один митрополит ни при одном царе и великом князе. В этом же замечательном письме много рассеяно интересных указаний и на другие отношения того времени. Богослужение, например, имело великое значение в жизни каждого… «В светлое Воскресенье не будет служить патриарх: праздник не в праздник». Любопытны понятия, в которых воспитывался тогдашний русский человек: при виде мертвого трупа приходит мысль царю: «Побеги вон, тотчас вскоча тебя ударит». Любопытна патриархальность, простота отношений: сам царь переписывает имение патриарха Иосифа; а «то все раскрали бы». Обнаруживаются отношения молодого царя к придворным: старый начальник приказа вышел в отставку, назначен новый, и царь очень доволен переменою: теперь слово его во дворце «добре страшно». Приверженность царя к Новгородскому митрополиту уже очень не нравится боярам, и вот Алексей Михайлович пишет к Никону, чтобы он был поснисходительнее, и в то же время предупреждает, чтобы не выдал его: Алексею Михайловичу не хочется, чтобы узнали бояре, как он предан Никону, как он заодно с ним против них. Два раза царь в письмах своих упоминал Никону об избрании преемника Иосифу; в одном месте писал ему: «Возвращайся, Господа ради, поскорее к нам выбирать на патриаршество именем Феогноста, а без тебя отнюдь ни за что не примемся». В другом: «Помолись, владыко святый, чтоб Господь Бог наш дал нам пастыря и отца, кто Ему свету годен, имя вышеписанное (Феогност), а ожидаем тебя, великаго святителя, к выбору, а сего мужа три человека ведают: я, да Казанский митрополит, да отец мой духовный, и сказывают, свят муж». Разумеется, Никон хорошо понимал намеки царя, знал, кто этот Феогност (известный Богу). По окончании всех духовных торжеств, которыми сопровождалось перенесение и переложение мощей святителя Филиппа, царь щедро одарил Никона. Он пожаловал ему много драгоценных церковных облачений и, сверх того, несколько деревень Новгородскому архиерейскому дому. Но этим последним даром царя Никон не мог уже воспользоваться, потому что избран был на новое поприще служения в Москве в сане патриарха Московского и всея Руси.
Три только года и пять месяцев управлял Никон новгородскою паствою; но и это кратковременное управление его, ознаменованное умною и строгою распорядительностию, необычайною благотворительностию и состраданием к несчастным, останется навсегда памятным в Новгороде. О трудах и подвигах Никона в сане патриарха и о последующей его судьбе, по оставлении патриаршеского престола, мы позволяем себе сделать здесь лишь краткую заметку, предоставляя истории подробное, обстоятельное и беспристрастное исследование жизни и деятельности этого великого и знаменитейшего иерарха в Российской Церкви. Избрание митрополита Никона на патриаршеский престол Спустя несколько дней после того, как совершилось торжество поставления мощей святителя Филиппа в первопрестольном храме Москвы, в том же храме, в присутствии самого царя, составился Собор из духовных особ и лиц государственных для избрания патриарха на место умершего Иосифа. Общее мнение было избрать первосвятителем Новгородского митрополита Никона. Сам царь желал этого, «зря, яко в та времена никтоже подобен ему в разуме и во утверждении благочестия». Но Никон, предвидя труды, опасности и скорби, какие ожидают его на первосвятительском престоле, употреблял все усилия, чтобы отклонить от себя это избрание, даже не явился и на Собор. Два раза посылали к нему нарочитых людей просить, чтобы принял избрание и наречение в патриарха Всероссийского. Никон твердо стоял на своем отказе, умоляя избирателей через их посланных, чтобы оставили его в покое на Новгородской кафедре.
Наконец в третий раз посланы были к Никону знатнейшие бояре, митрополиты, архиепископы, епископы и архимандриты просить его в храм, а в случае отказа привести его против воли. Когда Никон явился на Собор, царь, встав со своего места, объявил ему общее всех желание – видеть его на первосвятительском престоле. «Несмь таковыя меры, да архипастырем буду», – отвечал Никон и на все просьбы царя оставался непреклонным в своем отречении. Тогда царь, святители, вельможи и весь народ пали перед Никоном на помост церковный, со слезами умоляя его принять избрание. «Господь Бог свидетель, яко тако есть», – говорит Никон в грамоте своей к Константинопольскому патриарху Дионисию, описывая свое избрание в патриарха. Растроганный до глубины души смирением, Никон немедленно воздвиг царя от земли и сам залился слезали; храм весь наполнился рыданиями, все плакали. «Тогда, – говорит далее Никон, – я вспомнил, что сердце царево в руце Божией и убоялся отречения». Но прежде чем дать полное согласие на избрание себя в патриарха, Никон обратился к царю и к собору избирателей с такими словами: «Знаете, как первоначально дошел до нас свет Евангельской веры и как мы приняли от вселенских патриархов правила св. апостол, св. вселенских и поместных Соборов и св. отец и постановления греческих православных государей. По всему этому мы называемся христианами и хранителями правил и постановлений церкви. Так называемся мы, а яже суть делы, зело скудно действуется в нас. Но помните, что не слышателие, а творцы закона праведни пред Богом; «Что же мя зовете: Господи, Господи, и не творите, яже глаголю» (Лк. 6, 46) – говорит нам Спаситель наш. Итак, если угодно вам избрать наше смирение в патриарха всероссийского, дайте мне слово, и сотворите завет в этой соборной и апостольской церкви пред Господом Богом и Спасителем нашим Иисусом Христом, пред св. его Евангелием, пред образом преблагословенныя Девы Богородицы, пред св. Ангелами и всеми Святыми, что вы обещаетесь непременно хранить заповеди Евангелия Христова, правила и постановления Св. Церкви и будете слушаться нас во всем, как первосвятителя и отца верховнейшаго. Тогда, – заключил Никон, – мы не можем отречься от сего великаго архиерейства».
Царь и весь освященный Собор, «усердно и любезно восхитив этот ответ», тут же дали клятвенное обещание неизменно хранить и исполнять все, на что указал им Никон. «Они свидетельствовались, – продолжает Никон далее, – Господом Богом и Спасом нашим Иисусом Христом, Пресвятою Богородицею, всеми ангелами и всеми святыми, пред священным Евангелием и св. иконами». После этих торжественных обетов царя и всего народа Никон, к общей радости, изъявил согласие быть избранным на первосвятительский престол, и тогда же совершилось наречение в патриарха; ему было тогда и всего 47 лет; а 25 июля 1652 г. (7160) в храме Успения Божией Матери совершено посвящение Никона в патриарха «рукоположением Корнилия, митрополита Казанскаго и Свияжскаго, со всем освященным собором». Новопоставленный патриарх совершал обычное шествие на осляти, которого вел под ним сам царь. Торжественный обед во дворце и богатые взаимные подарки царя и патриарха заключили праздник. Достойно замечания, что поставление Никона на патриаршеский престол совершилось в день поставления св. Филиппа на митрополию всея Руси (25 июля), а потом и ему предстояла та же горькая участь, какую испытал св. Филипп, – низложение с престола и заточение.
Дружба самая тесная связывала патриарха Никона с царем Алексеем Михайловичем. Вместе они молились, вместе рассуждали о делах, вместе садились за трапезу. Так было почти каждый день, ни одно государственное дело не решалось без участия в нем мысли патриарха. И великий ум, предприимчивый, твердый характер Никона отпечатлены на тех немногих счастливых годах нашего Отечества, когда первосвятительский жезл был в руках его (1652–1658). Вступив на патриаршеский престол и окинув обширным, светлым и быстрым взором ума своего всю широту отечественной Церкви, Никон ясно сознал ее потребности и решился действовать для блага ее с полным самоотвержением. Немногие годы действительного правления Всероссийской Церковью ознаменованы многочисленными и великими его заслугами для Церкви и государства. Заслуги его для Церкви высказались, прежде всего, в заботах о духовном просвещении, в исправлении богослужебных книг, в упорядочении общественного богослужения и церковного управления. Мы видели, что Никон, будучи еще митрополитом Новгородским, уже заботился о распространении духовного просвещения в Москве, как столице государства.
Сделавшись патриархом, он принял под свое непосредственное покровительство и Чудовское патриаршее училище. Начальником его сделан был Епифаний Славеницкий. Чтобы отнять у суеверов всякое средство вредить просвещению, Никон перенес самый печатный двор в Чудов монастырь и отдал в полное распоряжение ученым инокам Преображенской и Чудовской обителей, а главным смотрителем и справщиком на печатном дворе определил Епифания. Должность по тогдашнему времени особенно важная. Помощником ему сделан Арсений грек, томившийся в заточении на Соловецком острове. Зорко Никон следил за действиями и успехами ученого братства. Деятельность училищ оживилась и принесла Церкви и Отечеству вожделенные плоды, но мудрость Никона и труды ученых обещали еще больше. Так как в это время враждебно смотрели на училища как на место развращения умов и порчи нравов и всячески старались препятствовать ученым занятиям, то нельзя было бы ожидать особенно великих плодов мудрости от училищ – Андреевского и Чудовского. Но Никон, ничем неудержимый в стремлениях к своим целям, умел в короткое время при помощи этих училищ сделать очень много полезного для духовного просвещения. Занятия ученого братства под его надзором и покровительством были необыкновенно быстры, живы и деятельны. Первою и главною по тому времени заслугою было то, что братство издавало богослужебные книги в исправнейшем виде, по сличении их с греческими подлинниками; составлялись новые переводы отеческих и даже гражданских сочинений греческих и латинских, полезных в общественном быте. Наконец, тогда же явились и собственные ученых иноков лексиконы: греко-славено-латинский как руководство для молодых питомцев науки к переводу сочинений греческих на славянский язык; филологический, служащий к изъяснению Священного Писания, и несколько новых служб отечественным святым.
Но не в одной Москве хотел Никон видеть училища и ученых; он желал распространить свет просвещения по всей широте обширного Отечества нашего. Как первосвятитель, считая себя обязанным побуждать местных пастырей к этому существенному долгу, он предписывал подчиненным ему архипастырям, «научая весь народ православный спасительным Христовым заповедем, особенно отрочат, наказания усердно желающих, учению, чтению и доброгласному и согласному пению, по преданию св. восточныя Церкви, учити и наказывати, избирая на cиe учителей в благих свидетельствованных и богобоязненных: и сея ради вины, якоже лепо, училища поставляти, и никому же от неискусных и неленостных наказателей в них даяти дерзновение». Между тем в Москве, которую Никон хотел сделать средоточием духовной мудрости для всего нашего Отечества, любознательность его собрала богатейшую по тогдашнему времени библиотеку. Сохранилось до нас описание ее, составленное по повелению царя Алексея Михайловича после удаления Никона в Воскресенский монастырь. В этом описании значится книг более 1000 томов – греческих, латинских, немецких, писанных и печатных на бумаге и на пергаменте. Многие из книг подписаны Никоном собственноручно. Заботясь о просвещении юношества в училищах и собирая в пособие наставникам их превосходные книги, Никон в то же время сознавал существенную потребность в общенародных поучениях посредством живого, пастырского слова и как собственным примером, так и своими предписаниями положил начало восстановлению устной проповеди после векового молчания ее на наших церковных кафедрах. Замолкшая в XVI веке, она теперь снова начала подавать свой голос.
Каждое богослужение, пока Никон был Новгородским митрополитом, сопровождалось назидательною устною его проповедию, и в сане патриарха он не совершал ни одной службы без назидательного собеседования с народом. И как в Новгороде, так и в Москве он не пропускал ни одного случая, ни одного обстоятельства жизни, чтобы не преподать совета, наставления, утешения и вразумления, проникнутого Словом Божиим, которое не сходило, так сказать, с уст Никона. Время не сохранило до нас церковных поучений Никона. Может быть, он и не писал их, а произносил только изустно. Осталось, однако ж, несколько других его сочинений, которые непререкаемо свидетельствуют о его глубоком, светлом уме, обширной начитанности, весьма основательном знании Слова Божия, писаний святоотеческих, церковных правил, о его пастырской ревности, вразумлении заблуждающихся, о любви к просвещению, и особенно к истории Отечества.
Стоя на высоте первосвятительского престола, оказавший Церкви и Государству многочисленные и величайшие заслуги, наделенный Промыслом и одаренный от природы необыкновенными душевными дарованиями, обширным, дальновидным, зорким и многообъемлющим умом, несокрушимо твердою и неустанно деятельною волею, всегда стремившеюся к упрочению благосостояния Церкви и счастья соотечественников, наконец, возвеличенный искреннею дружбою государя, Никон, по словам одного из очевидцев его, казался всемощным.
Но, видно, на земле нет прочного счастья, которого бы не могли поколебать никакие удары судьбы. Прошло шесть лет славного служения Никона в сане патриарха. Церковь и государство, благоустрояемые во внутренних и внешних своих частях, с благоговением взирали на искреннюю дружбу достойнейших своего века – государя и патриарха – и ожидали от нее новых плодотворных плодов. Но вот прошло, повторим, шесть лет с того времени, как великий Никон принял первосвятительский жезл и Господу угодно было, чтобы этот ревностнейший первосвятитель, как и св. Филипп, запечатлел свои подвиги для Церкви и Отечества собственными страданиями. С началом 1658 г. постигло Никона тяжкое искушение, продолжавшееся с лишком 23 года. Патриарх мужественно боролся до самой своей кончины (авг. 17-го 1681 г.).
Так начинает историю печальной участи Никона Шушерин, современник и соучастник его страданий: «позавиде супостат великия любве благочестиваго царя со святейшим Никоном патриархом: нача быти между ними безсоветие и раздор чрез неких злых человек, иже от супостата на то устроенных». Кто же были эти злые люди, устроенные от супостата, через которых началось безсоветие и раздор между царем и патриархом? Ответ на это, хотя неполный, находим мы у Майерберга, который, будучи посланником от Римского императора Леопольда, жил в Москве и знал русский язык. Вот что рассказывает он о печальной участи Никона: «Патриарх Никон, бывший любезнейшим царю, казался всемощным у него; но он низринут придворною жизнию, и, сокрывшись в монастыре, им самим построенном, Иерусалим именуемом, живет в упадке, без всякой надежды возстановления, не теряя однакоже бодраго духа. О падении его разные говорят различно. Правдоподобнее приписывают это чрезмерной охоте его к новостям и опрометчивому совету завести России войну с поляками и шведами, а также тому, что для искоренения невежества он открыл в Москве училища языков латинскаго и греческаго, велел снять с западных стен ставившияся иконы, дабы молящиеся не стояли к ним задом; жестоко укорял оба пола за частыя по турецкому обыкновению омовения. Этим самым у недоверчивых и привязанных к старинным обычаям россиян подпал он подозрению в перемене будто бы догматов веры. За то у всех он в ненависти, и все вообще желают его заточения, так что никого он не имеет заступником себе у царя, котораго сердце отдалила от него и царица, издавна его ненавидящая, и тесть царский, неприязненный ему по некоторым своим причинам. А добрый царь Алексей так осажден этими своими любимцами и другими первостатейными министрами, что никому нет доступа до него. Далее, вопли утесненных, нужды государства и неудачи войск, или вовсе от него утаиваются, или прикрываются приличными намерениям их видами».
С мнением Майерберга нельзя не согласиться, потому что в печальной истории Никона, как известно, всегда являлись действующими лицами одни и те же сановники. Двор царя Алексея Михайловича был весьма многочисленный. Одних стольников было 2714, ближних дворян – 11, бояр – 69, окольничих – 90, думных дворян – 37, думных дьяков – 11. Между тем в печальной истории Никона постоянно играли роль только Стрешневы и Милославские – родственники царя, Одоевский и Долгорукий – бояре монастырского приказа, Трубецкой, Салтыков, Ромодановский, дьяк Алмаз Иванов и те из бояр, из коих одни оставлялись царем наместниками во время похода в Польшу, а другие имели в своих семействах духовных детей протопопа Аввакума.
Первою и главною причиною ненависти царедворцев к Никону была их зависть, с которою они смотрели на особенную его близость к царю. Еще в сане Новоспасского архимандрита Никон был одним из ближайших людей; отпуская его в Новгород, царь в каждую зиму призывал его в Москву для дружеских бесед и государственных совещаний. Сделавшись патриархом, Никон был как бы соправителем царя; искавшие милости у царя в то же время обращались с просьбами о ней и к патриарху. Царь отправляется с войском в Польшу – высший надзор за наместниками поручается Никону, и Никон отдает им приказания; Москву поражает моровая язва, распространяется внутри России, народ помирает тысячами, семейство царя в опасности – попечение о нем государь возлагает на патриарха, который для сохранения его переезжает из одного монастыря в другой; возвращается царь из похода – и Никон почтен титулом «великаго государя». Могли ли равнодушно переносить такое возвеличение Никона завистливые вельможи, которые, ставя собственную славу выше всякого общественного блага, не хотели видеть ни высоких дарований других, ни блистательных заслуг для отечества? Тем более могли ли не питать ненависти к Никону родственники, которым по праву родства естественно хотелось быть ближайшими советниками царя, но которых Никон затмевал славою своих необыкновенных дарований?
Возбуждая таким образом зависть в царедворцах и особенно в родственниках царя своею необыкновенною близостью к престолу, Никон был для них тяжел и в других отношениях – гражданских и церковных. Господствующим пороком бояр того времени было корыстолюбие. Жалобы на неправосудие людей приказных вопияли во всех местах; особенно слышались они в Москве. Этой слабости не был чужд и тесть государя Илья Милославский, и свояк Борис Морозов. Патриарх Никон – друг бедности и справедливости – жестоко обличал неправосудие судей. Он не щадил их даже в думе царской, нередко называя виновных по имени. Может быть, подобные уроки слышали от него и Милославский, и Морозов и естественно питали нерасположенность к Никону. Корыстолюбие бояр поддерживалось их своеволием, непослушанием власти и законам. Оно в первые годы юного царя произвело крамолы и убийства. Но делается известным и сильным при дворе Никон – и слово царя становится «во дворце добре страшным и исполняется без замотчания». Бояре увидели, что нет уже места для своеволия, и должны были отставать от него. Но они хорошо знали и помнили, кто подал царю совет против них. Это был новый повод к негодованию. Никон, тяжелый для бояр в делах гражданских, горек был и со стороны церковной. «Ближние бояре и окольничие царя Алексея Михайловича, – говорит один историк, – путешествуя безпрерывно по Европе, привозили в отечество свои новыя открытия, относительно к утончению нравов, роскоши и внешним наслаждениям»; уставы церковные не соблюдались, появились латинские и итальянские иконы; к числу таких бояр принадлежали некоторые и из родственников царя. Мог ли Никон, ревностный поборник православия, равнодушно смотреть на отступление бояр от священной древности? Нет, он с ревностью охранял святыню Церкви от попрания ее легкомыслием вольнодумцев; он, как мы видели, отобрал от бояр латинские органы и фряжские иконы. Могли ли такие строгие поступки патриарха не возбуждать в недовольных им боярах желания избавиться от строгого первосвятителя?
Наконец, бояре-невежды, стоявшие во главе суеверов, упорных защитников мнимой церковной старины, не терпели Никона за исправление богослужебных книг, улучшение церковного пения и устройство греко-латинских школ, особенно же за уничтожение беспорядочного обычая ставить в храмах свои иконы и воздавать им особенное пред другими чествование. Они не могли забыть и того, что их «доблии и великоревностнии» протопоп Аввакум, князь Львов и другие расколоучители томились в заточении. Как же было не искать им в действиях Никона повода к тому, «да нань возгаголют», чтобы избавиться от неприязненного им и ненавистного патриарха? Такой повод скоро представился. В 1656 г. Никон одобрил царю войну со Швецией. Многие думные бояре предлагали государю сохранить мирные отношения к Швеции, пока не кончена война с Польшей. Но царь, зная, что еще державный отец его и мудрый дед стремились к возвращению древнего отечественного достояния в Корелии и Ингерманландии, склонился на сторону Никона; поход открылся.
Первые действия русского оружия и теперь были так же блистательны, как и в польский поход; но вот подступили к Риге – и здесь измена покрыла бесчестием славное доселе русское оружие. С этого времени русское войско повсюду терпело неудачи, которые довели государство до крайнего внутреннего изнеможения. Добродушный царь гневался, и гнев его более всего должен был падать на того, кто особенно настаивал начать войну со Швецией. С таким негодованием царь возвратился в Москву. Огорчение царя государственными неустройствами открыло теперь широкую дверь всевозможным клеветам на Никона. Завистники и недоброжелатели, чтобы избавиться от давно нелюбимого патриарха, употребили настоящие неблагоприятные обстоятельства государства средством для своей цели. Клеветы теперь посыпались на Никона со всех сторон. Одни говорили, что патриарх советует царю предпринимать походы, чтобы самому властвовать над всеми и над всем; другие, указывая на титул «великаго государя», данный Никону самим царем, клеветали, что он хочет будто бы сделаться равным государю; некоторые доносили царю, будто бы Никон похищает государственное имущество, приписывая к монастырям обширные вотчины, и тут же прибавляли, что он не хочет оказывать вспомоществования царю от монастырских вотчин и, следовательно, не почитает царя. Нашлись, наконец, и такие лжесвидетели, которые наговаривали царю, что будто бы Никон был подкуплен иезуитом Аллегретти уговорить его поднять оружие против Швеции и тем отвлечь войну от пределов Польши.
Может быть, при личном свидании и искреннем объяснении государя с патриархом все недоразумения и клеветы обнаружились бы, но этого-то личного свидания и объяснения теперь бояре и не допускали. Они, посеяв в сердце царя подозрение в мнимой измене его друга, решились во что бы то ни стало отвлечь царя от патриарха, поселить между ними взаимную холодность, неприязнь и, наконец, произвести открытый разрыв, в чем и успели: взаимные дружеские беседы царя и патриарха за трапезой в царской или патриаршей столовой уже прекратились. Никона перестали звать во дворец и для государственных совещаний. Царь прекратил свои обычные выходы к патриаршему богослужению; и всегда оставался слушать службу в придворной церкви.
Тяжело было для сердца Никона переносить такое охлаждение дружбы между ним и царем, которая до сих пор была так плодотворна для Церкви и государства. Никон видел утрату своего прежнего влияния на дела государственные и даже церковные; но еще продолжал терпеть. Наконец, видя крайнее унижение в столице, преследуемый в ней завистью, клеветами и презрением от бояр, он решился оставить Москву и удалиться в Воскресенский монастырь под предлогом обычной своей заботливости о созидании этой любимой им обители. Здесь он надеялся найти покой своей возмущенной душе. 10 июля 1658 г., совершив церковное торжество в Успенском соборе в память принесения от персов части ризы Господней и положения ее в этом храме, Никон, возмущенный до глубины души тем, что имя его опозорено низкими клеветами, что в глазах всего Отечества он представлен неверным слугою и изменником царя, поспешно разоблачается, надевает «смиреннейшую и худейшую архиерейскую мантию», восходит на амвон и в слух многочисленного народа возглашает: «Я никогда и не помыслил бы на таковой сан взыти, если бы государь в этой же самой церкви не обещал пред Богом, св. ангелами и всеми святыми непреложно хранить заповеди Божественныя и правила церковныя. Но весть Господь, яко наш великий государь дал такое обещание пред Богом, и пред св. чудотворным образом Пресвятой Богородицы, пред св. ангелами и всеми святыми, и – не один царь дал такое обещание, но и весь царский синклит и весь народ. И до тех пор, пока они пребывали по возможности верными своему обещанию, мы терпели. Но теперь, когда они изменили клятвенному обещанию, и царь стал гневаться на нас несправедливо, якоже весть Господь, мы, помня свое обещание о хранении заповедей Господних, како обещалися на поставлении патриаршем с подписанием, свидетельствуем в церкви небом и землею, что государь напрасно гневается на нас, и, помня заповедь Господа: «Егда же гонят вы во граде сем, бегайте в другий» (Мф. 10, 23), оставляем наш первопрестольный град и отходим в пустыню». Затем он поставил к Владимирской иконе Богоматери жезл св. Петра митрополита и с простым старческим посохом вышел из церкви, возглашая слова псалма: «Се удалихся бегая, и водворихся в пустыни, чаях Бога спасающаго мя от малодушия и от бури» (Пс. 54, 8-9).
Народ с горьким рыданием сопровождал своего первосвятителя, который пешим отправился на Воскресенское подворье. Здесь, преподав сопровождавшему его народу мир и благословение, он вошел в свои келлии и пробыл в Москве еще три дня в надежде видеться с государем; но ожидания его не сбылись. После этого Никон призвал к себе Крутицкого митрополита Питирима и, сказав ему, что на время удаляется в свой Воскресенский монастырь, поручил ему до своего возвращения заведовать в качестве наместника патриаршими делами и тогда же на двух простых плетеных колымагах отправился в путь к Воскресенскому монастырю.
С этого времени последовал окончательный разрыв между царем и Никоном. Удалившись в Воскресенский монастырь, Никон жил в нем самым строгим подвижником, представляя в себе для братии образец иноческих трудов. По прибытии в обитель он облекся в бедную и грубую одежду, надел на себя железные вериги и всецело посвятил себя молитве, посту и телесным трудам. В черной монашеской мантии, только с источниками, он первым являлся в церковь к богослужению и последним выходил из нее. Каждый день, по окончании литургии, он со слезами выслушивал молебен Пресвятой Богородице, «поемый во всякой скорби душевной и обстоянии». Келейное правило исполнял со всею точностью, по уставу Анзерскому, и продолжал до глубокой ночи. Пост его был постоянный и самый строгий. Пищу его составляли хлеб, огородные овощи и в праздники, говорит Шушерин, мелкая рыба; питьем служила вода. Между тем в простой бараньей шубе, в рясе «из влас агнчих пепеловиднаго цвета» (Шушерин), подпоясанный усменным поясом, покрытый кукулем, Никон с простой тростью в руке первым являлся среди всех монастырских работ. Сам с братиею ловил для обители рыбу; копал вокруг монастыря рвы и пруды и наполнял их рыбою, строил мельницы, разводил огороды и плодовые сады; рубил лес под посев хлеба, расширял и удобрял поля; осушал болота рвами; улучшал покосы, косил и убирал сено – всегда и везде являлся примером трудолюбия, исправности и благоразумной опытности; первый выходил на всякое дело и после всех полагал конец своим трудам. Во время постов, установленных св. Церковью, Никон умножал свои подвиги. В 150 саженях от обители, на берегу реки Истры, он устроил для уединения и совершенного безмолвия пустыню, с двумя церквами, по примеру церквей на Афонской горе. Сюда-то он удалялся во время св. постов, оставляя общежительную обитель, для совершенного пустынного уединения и безмолвия. Здесь, наедине с собою и Богом, изнурял плоть свою и возвышал дух свой к Господу постоянной молитвой, постом, коленопреклонением и поклонами. Сон его тогда был не более трех часов в сутки.
Особенным предметом попечения его и трудов была начатая им, дивная по своему плану церковь Воскресения Христова. Главное внимание Никона было сосредоточено на успехе и исправности работ по ее сооружению. При неусыпном его надзоре строение совершалось успешно. Никон сам носил кирпичи для нее, побуждая и поощряя своим примером к тому же делу и братию своего монастыря. Так было во все работные дни. В праздники и царские дни, говорит Шушерин, Никон являлся архипастырем. В простой, но благообразной архиерейской одежде, с архипастырским жезлом в руке входил тогда Никон в церковь и совершал Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому. В то время он рукополагал в построенные им монастыри иеродиаконов и иеромонахов, посвящал архимандритов и поставлял в монастырские села священников. По совершении литургии он разделял с братиею монастыря общую монастырскую трапезу. В часы, свободные от трудов, молитвы и послушания монастырского, Никон посвящал себя чтению духовных книг. Здесь он продолжал между прочим свою летопись. Изображая превратности царств, народов и частных людей, Никон точнее узнавал цену своего крестного испытания в сладостном уединении Нового Иерусалима. Среди строгих подвигов благочестия, Никон не забывал и дел милосердия, которое составляло как бы душу его жизни. Он приказал братии принимать и покоить в обители всех странников и пришельцев, которые приходили сюда во множестве для поклонения святыне. Он питал их нередко вместе с собою в трапезе и содержал в обители до трех дней на счет монастыря, и не только людей, но и «самый их скот», говорит Шушерин.
Нередко случалось, что в обитель Никона уклонялись для успокоения утомленные ратники, возвращавшиеся с поля битвы. Никон сам угощал их в братской трапезе и даже омывал им ноги, по заповеди евангельской. В иные дни таких гостей было у Никона до двух и до трех сот. Совершая это сам в Воскресенской обители, Никон завещал наместникам то же делать и в прочих своих монастырях. Он хотел вдохнуть во всю свою братию дух христианского милосердия. Приходили ли к Никону люди, желавшие посвятить себя на служение Богу в Воскресенской обители, – он никого из них не отсылал от себя, памятуя слово Господа: «грядущаго ко Мне не иждену вон». Брать вклады с поступающих вновь в его обитель не было в обычае у Никона; напротив, он сам давал новопоступившему иноку всю монашескую одежду. Царю известны были все высокие подвиги Никона в Воскресенском его уединении; он скорбел об унижении патриарха – своего друга. Но бояре были весьма рады удалению патриарха из столицы; теперь они уже безбоязненно и безопасно сеяли на него пред царем всевозможные клеветы, какие только могла придумать низкая злоба. Этого мало: грубость, дерзость и бесстыдство недоброжелателей дошли до того, что они открыто стали ругаться над святительским благословением Никона. «Боярин Семен Стрешнев, – говорит Никон, – научил некоего пса, себе подобнаго, седети, якоже при вознесении Господь наш воздвиг руце, и благослови своя ученики, тако и того пса изучил обоими пред ним ногами ругатися благословению Божию, и назвали того пса Никоном патриархом».
В бытность Никона в Крестном монастыре было даже покушение отравить его. Чаша с отравой уже была выпита им; но Господь, сохранивший святителя невредимым от подобной опасности еще в отрочестве, не допустил ему умереть и теперь. Совершивший этот злодейский поступок иеродиакон Феодосий на допросе сам показывал, что он подослан был отравить патриарха митрополитом Питиримом и Чудовским архимандритом Павлом. Вот и еще обстоятельство, которое свидетельствует, до какого неразумного озлобления дошли недоброжелатели Никона, увлекшись ненавистью. Никон, как уже известно, по воле государя назвал одну из построенных им обителей Новым Иерусалимом. Что бы, кажется, можно было вывести из этого названия, кроме повода к постоянному назиданию в вере и благочестии христианском? Но нет, врагам Никона нужен был повод к клевете на своего противника. Никон жил теперь в этом Новом Иерусалиме. Враги прежде всего распространили мнение, что Никон не имеет будто бы права называться Московским патриархом, а должен называться Новоиерусалимским. Епископы, рассуждали недоброжелатели Никона, получают свое название от места, в котором живут. Значит, заключали они, Никон должен называться не Московским, а Новоиерусалимским патриархом. В связи с этим мнением явилось другое: вот, заговорили враги Никона, явился уже и Новый Иерусалим; отсюда придет антихрист; Никон и есть этот самый антихрист.
Раскольникам, озлобленным на ревностнейшего защитника и поборника православия отечественной Церкви и без того уже готовым видеть в нем врага Церкви, понравилось такое название Никона. Молва об этом распространялась все далее и далее, раздавалась громче и громче, и вот – слово сие, что Никон-антихрист, промчалось между раскольниками даже до сего дня! Сколько нужно было терпения святейшему, чтобы перенести такие тяжкие огорчения! Враги патриарха Никона и на этом не остановились; они продолжали распространять в народе новые клеветы на него, одну другой чернее, одну другой ужаснее, которые сделали его в глазах изуверов страшилищем своего времени и для последующих веков. Больно и страшно слышать крики страстей, дошедших до дикости! Одни кричали, что Никон хочет бежать за границу и оттуда искать патриаршеского престола силою военного оружия; другие, что он на самом деле хочет сделаться владетельным государем, укрепляя монастыри и поселяя в них иностранцев; некоторые говорили, что Никон склонен к латинству и хочет сделаться папою; иные даже дерзнули чернить чистую и непорочную его жизнь. Даже самые добрые мероприятия Никона как попечительного и искусного домовладыки для злонамеренных врагов теперь служили источниками всяких клевет, которые с величайшим усердием сплетались при дворе и передавались царю.
Уже четыре с лишком года царили эти смуты; в Церкви отечественной не было ни надлежащего благочиния, ни должного порядка; раскол увеличивался; волнение в народе возрастало более и более: священники перестали думать о церковном благочинии, стали гнушаться даже книгами, напечатанными при Никоне. Среди таких смутных обстоятельств нашей отечественной Церкви прибыл в Россию Паисий Лигарид. Это был Газский митрополит, лишенный кафедры Иерусалимским патриархом Нектарием за нехороший образ жизни и подвергнутый запрещению священнодействия. Долго скитаясь без епархии, он обратился искать счастья в Италии и Греции; здесь у патриарха Парфения Куккума выпросив одобрительную грамоту, как знаток церковных правил явился с нею в Москву как способный будто бы к употреблению при исследовании дела о Никоне. С прибытием в Москву Лигарида смуты в нашей Церкви не только не уменьшились, но еще более увеличились; к прежним присоединились новые. Легкомысленный Лигарид, ласкаемый царем и боярами, чтобы оказать им услугу, не замедлил стать в ряду самых ожесточенных врагов Никона и сделался «всех злых советов на Никона составитель».
К нему-то обратились с радостными надеждами все недоброжелатели Никона, давно жаждавшие низложения неприязненного им патриарха. И вот первым делом Паисия и вельмож было 27 вопросов боярина Стрешнева о «новых обычаях патриарха Никона» и ответы, прибранные из церковных правил в осуждение Никону. «И Паисий, – говорит о нем Никон, – ни о клевете уведев, ниже о клеветнике, вся святыя заповеди Божия, и св. апостол и св. отец каноны – на соблазн людям простым растолковал». Все безобразные слухи, какие до этого времени распущены были в народе врагами Никона, были утверждены и как бы освящены голосом Паисия и письменным его свидетельством. Никон сделался теперь в глазах правительства церковного и гражданского самым подозрительным и опасным человеком. Этого мало: легкомысленный Паисий, видя, какую страшную смуту произвел он в Русской Церкви и в русском обществе своими писаниями, решился скорее отделаться от Никона: он прибирал все, чтобы не только лишить Никона престола, но и низвести его на степень простого монаха, к чему он уже ранее (в 1660 г.) присуждался Собором русских архиереев. Положено было созвать новый Собор и пригласить на оный восточных патриархов, к которым и были отправлены призывные грамоты, чтобы они лично рассмотрели дело о Никоне и произнесли окончательный приговор над ним.
2 ноября 1666 года прибыли в Москву два восточных патриарха – Александрийский Паисий и Антиохийский Макарий – и были торжественно встречены. Вскоре для рассмотрения дела о Никоне открылся Великий Собор в так называемой царской столовой, на котором присутствовали – сам царь, 2 восточных патриарха, 7 митрополитов русских и столько же греческих, 5 епископов русских, 24 архимандрита, 7 игуменов, 13 протоиереев, протосинкелл Александрийской церкви и эконом Антиохийского престола. Первое заседание Собора открыто было 1-го декабря в день воскресный; сюда приглашен был и Никон. Царь, изложив пред отцами Собора вины Никона, просил суда над ним; после сего начался допрос Никона. При этом допросе как нельзя лучше высказалась злоба на Никона Питирима, митрополита Новгородского, бывшего Крутицкого, Илариона Рязанского и Мстиславского епископа Мефодия. Они наперерыв друг перед другом осыпали Никона бранью и спешили обвинить его перед Собором восточных и русских святителей; а Иларион дошел до такой дерзости, что подымал руку на первосвятителя. Чтобы прекратить возникшее на соборе смятение, собрание было закрыто. Второе заседание было 5 декабря. Оно началось чтением ответов восточных патриархов о винах Никона. Затем приступили к чтению грамоты Никона к Константинопольскому патриарху Дионисию, выбирая из нее места, наиболее резкие по выражению в них Никоном неприязни к своим недоброжелателям.
Все слушали ее с глубоким молчанием, только Питирим, Иларион и Мефодий прерывали это безмолвие, «яко зверие дивии обскачуще блаженнаго Никона, рыкающе и вопиюще нелепыми гласы и безчинно всячески кричаху лающе». Царь, видя безмолвие бояр, которые так много и так нагло клеветали на Никона, с укором теперь обратился к ним и требовал улик против патриарха. В рядах их открылось движение: все как будто готовились что-то сказать и все между тем упорно безмолвствовали. Наконец выступил на средину Собора князь Юрий Долгорукий и объявил, будто бы Никон называл Церковь Русскую преклонившеюся к догматам латинским потому только, что Паисий Лигарид ласково принимался боярами. Глубоко сознавая свою невинность, Никон с презрением посмотрел на доносителя. Царь печально склонил голову. «Благочестивый государь, – сказал тогда Никон, – девять лет приготовляли то, в чем сегодня хотели обвинить меня, но что же вышло? Никто не может промолвить ни слова, никто не отверзает уст; не всуе ли поучишася тщетным? Но вот я даю тебе совет: повели им побить меня камнями, и они это сделают; иначе, если и еще девять лет будут выдумывать клеветы, то и тогда ничего не найдут против меня».
На глазах государя показались слезы; он закрыл лицо свое руками и склонил голову на край своего трона и долго оставался в таком положении, терзаясь и негодованием, и сожалением: негодованием на бояр, безмолвных в решительные минуты суда, и сожалением о патриархе, которого открытая душа представилась ему теперь в ярком свете. Затем опять продолжалось чтение грамоты Никона. Царь погружен был в глубокую думу, наконец не вытерпел: тихо сойдя с трона и взяв руку Никона, с клятвою начал уверять его в своей неизменной любви и всегдашней к нему преданности, предложил восстановить взаимный мир и уничтожить средостение возникшей между ними вражды. Но Никон ясно предвидел печальный исход своей судьбы и, при первых же клятвенных словах остановив государя рукою, отвечал: «Не возлагай на себя, государь, таких клятв; поверь мне, что лютыя скорби и беды готовятся мне». На последнее Никон сказал: «Добро и блаженно, царю, избрал еси дело, аще совершиши его; но поверь мне, что это не будет исполнено». Когда же кончилось чтение грамоты Никона, собрание было закрыто. Свидание царя с Никоном в этот раз было последнее. После сего протекла целая неделя в соборных совещаниях: делали выписки из Номоканона, сообразные винам Никона, исчисляли примеры восточных патриархов, по собственной воле оставлявших первосвятительский престол. Только голоса Черниговского епископа Лазаря Барановича, Симона Вологодского и Коломенского Мисаила раздавались в пользу Никона, которые, соглашаясь на лишение патриаршего престола, хотели сохранить ему святительский сан.
12 декабря рано утром открылось третье и последнее заседание в малой Благовещенской церкви над вратами Чудовской обители. Государь не пришел на это собрание; не явились сюда и епископы Лазарь Баранович, Симон и Мисаил, но их привели силою на Собор; однако ж, Баранович и Мисаил остались непреклонными и не подписали соборного свитка; а Симон, убежденный принуждением, подписал его так: «Аще истинно, буди тако, аще же несть истины, ни аз утверждаю». За Лазаря Барановича учинил подпись Мефодий, назвав себя епископом Мстиславским и Черниговским. Собрав таким путем согласие епископов на предварительно составленное осуждение Никона, Собор вызвал его в Благовещенскую церковь для выслушивания соборного решения о делах его; и когда Никон явился, эконом Антиохийского престола прочитал с амвона на греческом языке свиток, заключавший в себе 16 обвинительных пунктов, а Иларион на славянском. Свиток заканчивался следующим определением: «Познавше убо мы, яко Никон не архиерейския употребляше кротости, но мучительски неправдам приложися: в хищения вдадеся, и мучительствы обвязася, по святым и божественных Богопроповедников Апостолов, по вселенских же, средних и поместных благочестивых соборов правилам, сотворихом его всякаго священнодейства чужда; во еже бы ему к тому не действовати архиерейских. Ибо его совершенно извергохом и низложихом, мы, Божьею милостию патриарси с омофоры и с епитрахили, со всем поместным преосвященным Собором, изъявляюще, еже отныне вменятися и именоватися простым монахом Никону, а не к тому патриархом. Место же его обитания даже до последнего его издыхания определися, да будет обитель кая-либо древняя и удобоприходная, во еже бы ему безпрепятно и безмолвно плакатися о своих гресех».
Безмолвно выслушав соборное определение, Никон сделал возражение против некоторых обвинений. Брань посыпалась на патриарха от Рязанского архиепископа; Иларион, забыв всякое приличие, «лаял на Никона» и в своем неистовом состоянии называл его в храме Божием самыми поносными именами. «Чадо! Благодать во устну твоею, – кротко отвечал ему Никон. – Уста пастыря должны произносить благословения, а не поношения и неправду». Тогда восточные патриархи вошли на амвон и, помолившись пред царскими дверьми, повелевали Никону снять с себя клобук. «Почему же велите мне снять с себя клобук?» – спросил Никон. – «Собор осудил тебя, и дела твои обличили тебя, – отвечали патриархи, – посему ты недостоин отныне называться патриархом как оставивший самовольно и с клятвою паству свою». – «Пусть собор осудил меня, хотя и неправедно, – возразил Никон, – пусть и дела мои, которых однакож не было на самом деле, обличили меня; пусть я и самовольно оставил паству свою, но да не будет, чтобы я сам с себя снял клобук – это знамение моих клятвенных обетов пред Господом – сохранить до конца жизни непорочное иночество. Я сам этого не делаю, а если вам надобно, чтобы клобук был снят с меня, то поступайте, как хотите!»
Затем, немного остановившись, продолжал речь свою к патриархам: «Спрашиваю же вас, откуда вы взяли такия правила, по которым низлагаете меня? Если я и действительно виновен; если и действительно достоин низвержения, то почему вы совершаете это дело втайне, как тати? Зачем привели меня в эту малую монастырскую церковь, где нет теперь ни царя, ни народа. Не здесь я принял, по благодати Св. Духа, жезл первосвятительскаго служения Российской Церкви; не здесь, но в великом соборном храме, среди многочисленнаго стечения народа, я восприял патриаршество. Там слезно умолял меня царь со всем народом быть их первосвятителем; там дали мне царь и народ клятву неизменно хранить догматы и уставы Церкви; туда же пойдем и теперь, и там, если найдете меня виновным, низложите меня». – «Там или здесь – все равно», – равнодушно отвечали патриархи на требование Никона. «Дело совершается, – продолжали они, – по воле всего освященнаго Собора. А что нет здесь царя, то это его воля».
Сказав это, патриархи подошли к Никону и собственными руками сняли с него клобук, украшенный жемчужным херувимом, и надели на него простой клобук, снятый с одного из бывших на Соборе греческих иноков; потом сняли и драгоценную панагию, слитую из серебра, вызолоченную и украшенную дорогими камнями. При таком бесцеремонном действии, Никон, указывая патриархам на жемчуг, серебро и драгоценные камни, сказал патриархам: «Возмите и разделите; получите облегчение и отраду от угнетающих вас нужд». Патриаршеского же жезла и архиерейской мантии не посмели отобрать, «страха ради народнаго».
Отпуская Никона, восточные патриархи повторили ему: «Отныне ты уже не должен называться патриархом и жить в созданном тобою Воскресенском монастыре, но должен идти на покаяние в назначенный тебе для этой цели от царя и собора Ферапонтов монастырь». Садясь в сани, чтобы отправиться на подворье, Никон с сокрушением сердца и глубоким вздохом сказал самому себе: «Никон, Никон! Вот за что все это тебе: не говори правды, не теряй дружбы; если бы ты устраивал у себя богатыя вечери, и с ними угощался, то верно этого с тобой не случилось бы». Так совершился суд над знаменитейшим русским патриархом Никоном – ревнителем правды и благочестия. «Праведно или неправедно осужден Никон, о сем Богу судить», – говорит один из просвещеннейших архипастырей нашей Церкви; тем не менее страхом и трепетом обнимается сердце при чтении заключительных слов «извещения о совершенном низложении Никона». Здесь страхом нелицеприятного суда Божия свидетельствуют судии Никона справедливость своего суда над ним. «Сия вся, – говорят они, – правильно сотворихом, кроме всякаго лицеприятия, и кроме страстнаго суждения... правильный и по Бозе суд изнесохом и сотворихом».
Не входя в подробный разбор обвинений Никона, которые весьма обстоятельно им самим раскрыты в возражениях его на вопросы Стрешнева Лигариду и на ответы Лигарида Стрешневу, мы находим со своей стороны весьма уместным остановить внимание на следующем:
1) Главной и единственной причиной гонения, воздвигнутого на Никона, были зависть и личная ненависть к нему светских и духовных лиц, вызванная, с одной стороны, особенной близостью Никона к царю, а с другой – тем, что Никон, ревностно заботясь о благе Церкви и государства, беспощадно преследовал неблагочиние церковное и преступления гражданские, допускаемые невежеством и защищаемые покровительством сильных. Стало быть, обвинителями Никона были исключительно завистники и личные враги его, нарушители церковного порядка и благочиния, люди светские и духовные, люди неблагонравные, не принадлежащие к числу людей с добрыми качествами, и в числе их притом и такие, которые, стоя во главе обвинителей, подлежали сами отлучению от церкви.
2) В вину Никону поставлено и то, в чем не было никакой его виновности, например, управление государственными делами во время войны царя с Польшей, переезды его из одного места в другое с семейством царя для спасения его от смертоносной язвы; построение трех монастырей и наделение их богатыми вотчинами, наименование Воскресенского монастыря Новым Иерусалимом и принятие им титула «великаго государя», так как все это делалось по изволению самого государя.
3) Все клеветы и доносы составлялись на Никона главным образом при дворе и на суде, ничем не были подтверждены, как показало второе заседание Собора, на котором обвинители, стоя лицом к лицу с обвиняемым, были совершенно безгласны, несмотря на гнев царя и требование улик, и только три епископа «лаяли», как выражались тогда, «яко псы», на святейшего перед всем собором и в присутствии самого царя.
4) Никон и устно и письменно защищал себя с полным сознанием и ясным выражением правоты своего дела; но голос его на суде был гласом вопиющего в пустыне.
5) Наконец, судиями Никона были те же самые русские архиереи, которые были обвинителями и которые еще задолго ранее сего присудили его к лишению святительского сана; и хотя во главе их стояли два восточных патриарха и девять архиереев, но они, как чужестранцы, естественно не могли знать хода дела Никона в истинном виде и, как прибывшие в Россию с надеждой на щедрую милостыню, очевидно, не могли беспристрастно и без лицеприятия отнестись к делу.
Вот и еще обстоятельства, которые весьма немало способствуют к разъяснению дела о патриархе Никоне. Отцы Собора, продолжая свои рассуждения о благоустройстве нашей Церкви, обратили внимание и на пастырские распоряжения Никона по церковному управлению. Несмотря на всю к нему неприязнь, только немногие (2 или 3) и неважные из его распоряжений были отменены Собором; но большая и главнейшая часть их, все пастырские труды относительно благоустройства Церкви, все не только главнейшие подвиги по церковному управлению, но и частнейшие распоряжения по благоустройству церковного управления, которые направлены были против господствовавших в то время беспорядков в церкви и которые на суде вменялись Никону в вину, получили от Великого Собора неизменное утверждение на все времена. И пресловутый монастырский приказ, с которым боролся Никон, был закрыт; и неподсудность духовенства мирским судьям, против чего сильно ратовал Никон, получила прочное основание. Достаточно привести в подтверждение этой истины свидетельство самого Великого Собора, что «на нем помощию благодати Божией, церковь Российская соединилась в единство и согласие веры и чина со св. восточной церковью в древних преданиях св. апостолов и св. отец»; т. е. Великий Собор довершил и непреложно утвердил то, что составляло главнейший предмет пастырской ревности и мудрости Никона.
Наконец, и восточные патриархи, возвращая Никону после его кончины патриаршеское достоинство, писали в своих грамотах, что он осужден не «за какия-либо тяжкие преступления, а за некия малыя вины, в которыя впал по некоему малодушию и унынию». Все это, вместе взятое и взвешенное, проливает весьма обильный свет на дело Никона, не затемняемый тенью пристрастия, с одной стороны, и клеветы – с другой, и приводит к тому несомненному убеждению, что едва ли «праведный и по Бозе изнесли и сотворили суд» о Никоне отцы Собора. Сам Никон признавал себя перед своею совестью не повинным ни в одном из проступков, какие приписывали ему обвинители. В одном из своих возражений на ответы Лигарида Стрешневу он смело называет себя «ничтоже зла сотворшим ко всем». «На нас, труждающихся в слове Божии наскачеши, – говорит он Паисию, – ничтоже зла тебе сотворших, якоже и ко всем».
В другом месте он сравнивает себя с Григорием Богословом, приводя слова его из прощальной беседы с Константинопольской паствой, где ревностный архипастырь свидетельствует чистоту всех своих действий, Никон продолжает: «Сим последуя, и мы глаголем: которое тяжкое от нас кто-либо пострада, или чим отщетихом кого, или что есть досада наша, покажите ми, токмо не солгите». На этом-то основании Никон до конца жизни своей сохранил твердое убеждение в несправедливости произнесенного над ним осуждения и не переставал и в самом заточении называться патриархом. Так же, как патриарха, чтили и все его окружающие, и сам царь, неоднократно просивший у него благословения и молитв. Не лишним считаем сказать здесь о несчастной судьбе, постигшей главных судей Никона. Суд Божий не замедлил совершиться над теми, которые свидетельствовались, что они «изнесли и сотворили суд праведный над Никоном и по Бозе». Восточные патриархи по возвращении своем на паству были повешены султаном за то, что без его повеления отправлялись в Россию. Богатая милостыня, какую они вывезли с собою из России, была у них отнята турками, и самые тела после казни преданы позорному поруганию.
Об Александрийском патриархе Паисии так говорит один из его преемников на престоле Парфений в своей грамоте к царю Феодору Алексеевичу о возвращении Никону патриаршего достоинства: Паисий Лигарид, обличенный во многих злоупотреблениях, лишился милости русских бояр, выгнан из России, скитался по разным местам, и неизвестно, где кончил жизнь свою. Иосиф, впоследствии митрополит Астраханский, мучительски убит казаками; Иларион, митрополит Рязанский, предан был суду за предосудительные поступки и отставлен от епархии; Мефодий, епископ Мстиславский, удален от блюстительства митрополии Киевской, за измену и мятежничество потребован к суду в Москву и скончался в Новоспасском монастыре под стражею. И еще до суда соборного Никон говорил о некоторых из своих врагов, что над ними исполнились слова Писания. «Разсыплет Бог кости человекоугодников; овии из них, – говорил Никон, – вином сгорели, ин удавился, ин инако злопострадав умре». Затем прибавляет: «Якоже вси знают о сем». А Ярославский архимандрит Сергий, тот самый, который содержал стражу над Никоном по окончании суда и осыпал его разными ругательствами, был лишен настоятельства и сослан на покаяние в Толгский монастырь.
На другой день после объявления соборного определения (это было 13 декабря) Никон тайно от народа, желавшего проститься со своим любимым первосвятителем, под крепким караулом отправлен был в Ферапонтову пустынь и без теплой одежды, несмотря на лютые морозы. Горестно было его путешествие и сопровождавших его иноков, пожелавших разделить с ним заточение. Везде, где набожный народ желал выйти навстречу изгнанному патриарху и выказать свое усердие какими-либо приношениями, грубые стрельцы разгоняли всех криком, бранью и ударами; даже не позволяли купить теплой одежды для спутников, которые терпели велию скорбь и тугу. Во время пути и сам Никон подвергался опасности лишиться жизни. «Во едину от нощей, – говорит жизнеописатель, – ехавшим им с великою борзостию, от борзости шествия навалиша блаженного Никона к некоему древу, и главу его к оному древу приторгше и едва особ не отторгше, и от того ударения святейший патриарх приятъ не малу язву, после чего он во всю жизнь страдал головными болями. В другой раз, тоже ночью, когда гнали лошадей с великою скоростию, наехали на некое зело острое дерево, которое пронзило сани, посланныя в них войлоки и тако уязвило Никона, что он еле остался жив.
Сидевший вместе с ним инок вынул это острие из язвы, и, как памятник страданий патриарха, положил в сани для хранения». «Бог весть, – замечает при этом Шушерин, – от борзости ли коней это сделалось, или с намерением правивших конями». Впрочем, Господь не оставил в совершенной безвестности и без утешения во время пути страдальца-святителя. «В некоей веси, – пишет Шушерин, – близь слободы Мологи, Никон остановился для ночлега. Стрельцы, по обычаю, тайно ввели его в приготовленный дом, и, окружив его крепким караулом, сами удалялись. И вот, когда Никон остался один с немногими учениками, выходит из потаенного места (из подполья) старушка и спрашивает: «Который есть блаженный Никон?» Ей указали на патриарха. Она же со слезами припадше и с великим воплем умиленные глаголы испущаше глаголя: «Камо идеши, пастырю словесных овец? Зачем оставляешь овцы своя на расхищение?» Удивленный такою неожиданностью, Никон спросил, как узнала она о его заточении. «В прошедшую ночь, – отвечала старушка, – явися во сне муж некий благообразен и рече ми: «Жено! се раб мой Никон патриарх послан и идет в заточение в великом утеснении и скудости, ты же елико можеши, помоги», – и затем скрылся. Сказав это, старушка вручила Никону 20 серебряных рублей, несколько теплых одежд и просила патриарха не отринуть ея приношения».
С глубокой благодарностью и благоговением принял Никон это приношение как дар самого Господа, пекущегося о рабах своих, и осенил старушку знамением св. креста, с молитвой ко Господу, чтобы Сам Он, многомилостивый, воздал добродетельной старице за то подаяние, какое она, во имя Его, сделала святителю. Наконец прибыли в Ферапонтов, который незадолго перед тем опустошен был страшным пожаром. Никона поместили в две больничные комнаты – «смрадныя и закоптелыя, яже изрещи неудобно». Жестокость заточения его увеличивалась еще и оттого, что грубые приставники нередко томили его голодом, не позволяли не только никому из посторонних приходить к Никону, но и никого не допускали подходить близко к его келлии. Келлия, где жил Никон, была в самой стене монастырской; окна ее были забиты крепкими железными решетками; к дверям келлии, выходившим на открытый монастырский двор, приставлена была крепкая стража, такой же караул стоял и под окнами Никоновой келлии.
Стража сопровождала Никона и его иноков при всех его входах и выходах; самые переходы их из келлии в церковь совершались в сопровождении караула. «Но терпеливый Никон, – говорит Шушерин, – не роптал на свою горестную участь и за все благодарил Господа, молясь за самых врагов своих: «Отче, отпусти им: не ведят бо что творят» (Лк. 23, 34). Ни бедность, ни теснота, ни унижение не могли поколебать в нем твердости духа: без малодушия переносил он свои страдания. Он постоянно носил на себе железные вериги и маленький серебряный ковчег со Св. Дарами. В таком расположении духа и с таким напутствием он всегда был истинным воином Иисуса Христа, облеченным во вся оружия Божия против слабости и искушений духа».
И здесь, в суровом заточении, Господь не оставил святителя без Своего благодатного утешения. «Во един от дней св. поста, – пишет Шушерин, – бывшу святейшему патриарху с сущими своими монахи у утренняго славословия в келлии, поведа видение, явльшееся ему тоя нощи во сне. Представилось мне, говорил Никон, будто я нахожусь в каком-то обширном и величественно устроенном здании, туже обретеся и Московскаго большаго собора протопоп Михаил, акибы докладывая нам об освящении некия церкви. Прошли мы с ним две-три комнаты, которыя были одна другой прекраснее. Наконец вступили во внутреннюю и остановились от изумления, таково бяше ту здание, яко не удобь сказаемо. Удивляющимся нам о таковом великом и прекрасном здании, абие внезапу явился юноша благообразен зело и рече: «Что удивляешися святче Божий сему зданию?» Мне же отвещавшу ему: «Како не имам удивлятися сему такову величеству и красоте здания». Он же рече мне: «Знаеши ли ты чие суть здание сие?» Мне же отвещавшу ему: «Никакожде, Господи мой! не вем». «Здание сие, яже ты зриши, твое суть, иже ты создал еси своим терпением; но потщися совершити путь своего течения; еще тя и се глаголю: яко днесь имаши свой хлеб ясти», – и абие невидим бысть юноша и видение преста». «Скоро последовало, – продолжает Шушерин, – и исполнение видения.
В тот же день, во время благовеста к литургии, собрались к Никону приставники, чтобы по обычаю проводить его в церковь. Никон беседовал с посетителями о предметах духовных. Вдруг доносят ему, что иеромонах Михаил с некоторыми трудниками Воскресенского монастыря желают его видеть. Обрадованный этою вестью, Никон приказал их пустить к себе, благословил, облобызал и посадил вместе с собою. Михаил объявил, что он прибыл с гостинцами от Воскресенской братии, и вручил блаженному денег двести рублев, десять хлебов братских трудов, также и от рыб и иных запасов немало. Святейший прием сие все с радостию велиею и со слезами возблагодарив вседетеля Бога, дающаго пищу всякой твари и усердие братии Воскресенской обители, сказал: «Вот и сбылось днесь видние нощи сея, глаголющее мне, яко днесь имаши свой хлеб ясти».
Ободренный и утешенный таким видением, неутомимо деятельный Никон неутомимо трудился: он не хотел ни на час оставаться праздным и в тесноте заточения. «Праздность всякому злу вина бывает», – часто говаривал он братии. Очищая ум и сердце смиренною молитвою к Богу и покаянием, он тело свое изнурял постоянными трудами: сам носил дрова для своей келлии, ходил за водой на озеро, готовил пищу для своей братии, которая сюда прибыла разделять с ним скорби заточения. Во дни поста Никон всего себя посвящал духовным подвигам; и теперь среди общежительного монастыря, как в былое время в Воскресенском, продолжал он сохранять принятый им устав для препровождения великих дней св. Четыредесятницы. Уединенная молитва, строгий пост и непрестанные труды были неразлучными спутниками его во все время св. поста. А когда давалась ему некая свобода, он, с согласия игумена, рубил лес со своими иноками на берегу озера, расчищал место для посева хлеба и разведения огородных овощей; собственными руками устроил рыболовные сети, нередко по целым дням трудился на озере в ловле рыбы и доставлял ее в общую братскую трапезу.
Среди таких-то подвигов без всякого роптания проводил жизнь в заточении великий Никон. Одно желание он имел, чтобы быть погребенным в созданной им обители Воскресенской. В Москве не только народ, но и сам царь вполне чувствовал утрату великого мужа, своего искреннего друга и мудрейшего советника. Все дела государственные с удалением Никона пришли в явное расстройство. Внутри Отечества – от безрассудства бояр; вне пределов государства, на поле битвы, – честолюбивые воеводы только спорили друг с другом за места и теряли одну за другой победы, даже с намерением выдавали друг друга врагам. Царь, которого присутствие требовалось теперь и в столице, и на войне, не знал, что делать. Он нередко вспоминал с сердечным соболезнованием о тех счастливых годах своего царствования, когда сам с храбрым войском разил врагов на поле битвы, а патриарх, друг его, всей душой преданный благу Отечества, мудро управлял внутренними делами государства. Падение Никона почитал теперь царь собственным несчастьем.
И как бы в тайный упрек ему, пред ним сменялись один за другим патриархи, а Никон оставался жив. Царь хотел по крайней мере получить благословение от первосвятителя, которого чтил некогда как отца, и не получал. 29 января 1676 года скончался царь Алексей Михайлович; на престол вступил юный сын его Феодор Алексеевич. «На блаженнаго Никона, – скажем словами Шушерина, – паки диавол воздвиг бурю чрез свое оружие – злых человек». Остававшиеся в живых зложелатели опять стали клеветать юному царю на Никона, обвиняя его в разных тяжких преступлениях против мира Церкви и государства. Не прошло и года от восшествия на престол Феодора Алексеевича, как представлено ему было до 300 обвинительных статей. Недоброжелатели оклеветали и монастырскую его жизнь; не устыдились обвинить его в сношениях с мятежником Стенькой Разиным, даже клеветали и на чистоту жизни того, чье иночество было непорочно с юных лет.
К Никону опять приставляется строжайший караул, «стрельцы тучи озлобления и тесноты творяху блаженному Никону». «Господи, не постави им греха сего», – молился Никон за врагов своих, чувствуя теперь в сердце всю сладость смирения. «Благо мне, яко смирил мя еси», – неоднократно повторял он, испытавший столько горестей, сокрушивших человеческое самолюбие. История не сохранила всех новых обвинительных статей. Шушерин говорит только, что они были «лжесоставны и полны всякия неправды». К Никону отправлены были следователи – архимандрит Чудовский Павел, боярин Желябовский и дьяк Рубцов; начались допросы, на которые «блаженный ответ творя, якоже Дух Святый разум ему во глаголании подая; и не токмо сия, но и от Божественного Писания много изрече прилично сему». По окончании допросов Никон окружен был стражею из стрельцов и под строгим наблюдением отправлен в Кирилло-Белозерский монастырь; келейная казна его была переписана и запечатана и «из нея не даша ему даже и нужных потреб». Помещение было дано ему самое неудобное: «келлии бо, идеже его заточиша, неугожи вельми от необычайного нагревания и угару». Страдая головными болями от сильного ушиба головы на пути из Москвы, Никон теперь не знал покоя от них ни днем, ни ночью. С каждым днем эти боли усиливались, так что сам он и окружавшие его стали ожидать скорой кончины. К тому же в этом монастыре пришлось ему терпеть всякие нужды и озлобления не менее прежнего, «яже претерпе в Ферапонтове монастыре».
Но это было уже последнее тяжкое испытание блаженному патриарху. Господь вложил в сердце юного царя, скажем словами Шушерина, разведать и узнать во всей подробности жизнь, дела и причины падения Никона. К счастью блаженного патриарха, было при царе лицо, которое могло представить Никона в истинном свете. Эго была тетка царя – умная и набожная царевна Татиана Михайловна. Она видела и знала все придворные интриги и козни, какие строились Никону, но помочь тогда ничем не могла, она во всю жизнь питала к нему глубокое уважение и никогда не забывала заслуг его для семейства царского. Слыша о новых преследованиях, клеветах и притеснениях, какие терпел и терпит Никон в своем заточении от приставников, Татиана Михайловна решилась расположить царя к облегчению горькой его участи. В благоприятные минуты семейной беседы с царем-племянником она со всею подробностью, со всею нежностью и сострадательностью рассказывала ему о дружбе Никона с его отцом Алексеем Михайловичем, о заслугах его во время морового поветрия, когда он странствовал с царским семейством «от града во град, от места на место, спасая и соблюдая его и ища благорастворенного воздуха от поветрия того», об уме его и о печальном его заточении.
Сердце юного царя мало-помалу проникалось любовью и уважением к Никону. Умная тетка его не забыла напомнить ему и о его личных отношениях к Никону, как своему крестному отцу; указала, наконец, и на величественный и незабвенный памятник ума и благочестия Никона – храм Воскресения Христова в Новом Иерусалиме, который, однако же, оставался недостроенным и подвергался опасности совершенного разорения и опустошения. Она просила при этом царя возвратить Никона в Воскресенский монастырь. А чтобы окончательно расположить царя к этому доброму делу, она убедила его посетить монастырь Воскресения Христова. Недоброжелатели Никона предчувствовали его победу, старались отклонить царя от посещения, но убеждения тетки взяли верх над всеми кознями.
Декабря 1-го 1680 г. Феодор Алексеевич удостоил посетить воздвигнутую Никоном обитель, названную по воле царя-друга Новым Иерусалимом, и пробыл здесь немалое время, восхищаясь красотою местоположения. Пораженный величием зданий, начатых по образцу Иерусалимского храма Гроба Господня и уже 14 лет остававшихся в запустении, государь глубоко вздохнул от сожаления о таком прекрасном здании, оставленном в пренебрежении, и тогда же объявил волю свою продолжать строение по плану Никона на счет своей казны, поручив это дело ближнему своему человеку Михаилу Лихачеву. Теперь мысль и желание видеть самого строителя этого монастыря глубоко запала в душу благочестивого царя и никогда уже не оставляла его. И если исполнение этой доброй мысли царя замедлялось, то единственно потому, что патриарх Иоаким противился возвращению Никона, опасаясь иметь в нем соперника в патриаршестве.
Неоднократно царь просил Иоакима дать согласие на возвращение Никона в Воскресенский монастырь, но Иоаким всякий раз отвечал, что этого сделать нельзя без разрешения Собора восточных патриархов. Царь хотел победить настойчивость Иоакима своею кротостью, всю ответственность пред восточными патриархами брал на себя, но Иоаким решительно отказался исполнить желание и просьбы царя. Глубоко огорчен был царь отказом патриарха, глубоко он сожалел о Никоне. Наконец, узнав от иноков Воскресенского монастыря, что Никон тяжко болен, принял елеосвящение и облекся в схиму, и прочитав последнее, предсмертное письмо Никона к инокам Воскресенской обители с молением о ходатайстве пред царем взять его из заточения, царь был тронут до глубины души, составил собор и убедительно просил разрешить Никону возвращение в Воскресенскую обитель, «яко при смерти есть». «Буди по воле твоей, благочестивый царю», – отвечал Собор.
Получив согласие, царь немедленно отправил в Кирилло-Белозерский монастырь дьяка Ивана Чепелева с поручением привести Никона, живого или мертвого, в Воскресенский монастырь. Это было в 1681 г. Прежде чем прибыл Чепелев в Кирилло-Белозерский монастырь, Никон, прозревая духом прибытие его, в продолжение нескольких дней пред тем сам вставал с одра болезни и готовился в путь. Братия, бывшая с ним, приписывала все это болезненным припадкам и беспамятству. Так было не один раз. Наконец, в самый день прибытия к нему царского посла, он весело и бодро встал с постели, справил себе волосы, надел дорожную одежду, вышел в предсение и сел в стоявшие здесь кресла как бы в ожидании предстоявшего пути. С удивлением смотрели на это служившие ему иноки. Окинув их взором, Никон сказал: «Я готов, а вы что же не готовитесь? Вот скоро за нами будут». Иноки безмолвно приняли эти слова Никона. Но немного спустя после того действительно является в келлии Никона Чепелев и объявляет ему милость царскую. Одержимый тяжкою болезнью, Никон благодарил, однако ж, царя в лице его посланного низким поклоном и сердечным словом живейшей признательности.
Немедленно приготовлены были струги, на которых Никон со своими спутниками отправился по Шексне. Скоро достигли Волги. Чепелев хотел плыть вверх по этой реке; но Никон, имея в виду путь, которым некогда плыл он к Москве со св. мощами митрополита Филиппа, приказал плыть вниз по Волге, по направлению к Ярославлю. На берег реки, где плыл Никон, народ стекался массами, чтобы взглянуть на великого пастыря, удостоиться его благословения и поднести ему дары от своего усердия. Августа 16-го 1681 г. струг с Никоном остановился близ Толгского монастыря.
Изнемогая от болезни и опасаясь, чтобы не отойти в жизнь загробную без напутствия Св. Дарами, Никон здесь с живою верою в Искупителя приобщился запасных Даров от руки своего духовника – архимандрита Никиты. Укрепившись верою и уже готовый к переселению в вечность, Никон приказал продолжать путь к Ярославлю, в надежде на милость Божию. Жители Ярославля, узнав о приближении к ним Никона, во множестве стекались видеть блаженного патриарха и, найдя его уже на смертном одре, со слезами лобызали его святительскую руку и ноги. Сопровождавшие Никона царский дьяк и архимандрит, видя, что народ стекается все более и более и не дает ему покоя, велели перевезти струг на другой берег реки. И лишь только струг тронулся, блаженный патриарх начал кончаться: озираясь, как будто кто к нему пришел, сам оправил себе волосы, бороду и одежду, как бы готовясь в дальнейший путь или к встрече кого-либо. Духовник с братиею, увидя, что настал для него последний час жизни, совершили над ним «последование при исходе души от тела».
Патриарх, распростершись на одре, подал благословение окружающим его и, сложив крестообразно на персях руки, глубоко вздохнул в последний раз и мирно отошел ко Господу, которого любил от всего сердца в течение всей своей многоплачевной жизни. Это было 17 августа, в 4 часа по полудни, 7189 (1681) г. Никону тогда исполнилось 76 лет, 2 месяца и 24 дня от рождения. Тело многострадального Никона с благоговением опрятали сопровождавшие его иноки; архимандрит Спасского монастыря, при многочисленном стечении народа, совершил со всею братиею панихиду; а царский дьяк поспешил отправиться с донесением к царю о смерти Никона.
С глубокою скорбью принял эту весть благочестивый царь, подробно расспрашивал Чепелева об обстоятельствах смерти Никона и, узнав от него, что Никон во всем полагался на великого государя и призывал благословение на него и на весь его дом, сказал: «Если так, то воля Господня да будет; сколько Бог поможет, я не предам его забвению». И тогда же дал повеление перенести тело блаженного патриарха в Воскресенский монастырь. Когда получено было это распоряжение в Ярославле, сопровождавший Никона архимандрит и братия устроили «возила со всяким опасением твердо» и после панихиды, возложив гроб на оныя, отправились в путь при многочисленном стечении ярославского духовенства и народа. По городам и селам из церквей и монастырей выходили навстречу со св. крестами, хоругвями и иконами, совершали над гробом почившего патриарха литию и лобызали самый гроб. Наконец прибыли с гробом блаженного патриарха к Троицкой Сергиевой лавре; а отсюда после торжественной встречи усопшего провожал гроб почившего патриарха до самого Воскресенского монастыря с подобающими почестями архимандрит лавры Викентий. Накануне дня погребения прибыл в Воскресенский монастырь сам государь с высочайшею фамилиею и в сопровождении всего своего двора. С ним прибыл митрополит Новгородский Корнилий со знатнейшим духовенством московским и придворными певчими. Патриарх же Иоаким, сколько ни убеждал его царь, отказался быть на погребении и поминать Никона патриархом под тем предлогом, что не может этого сделать без разрешения восточных патриархов. Впрочем, митрополиту Корнилию позволил Никона отпевать так, как повелит ему государь.
Утром 26 августа тело Никона перевезено было в дер. Мокрошу (в версте от Воскресенского). Сюда государь повелел отправиться Воскресенскому архимандриту с братиею и возложить на усопшего патриаршескую мантию с источниками, панагию и все облачение первосвятительское, какое приготовил сам Никон для своего погребения еще до низложения с патриаршеского престола. По возложении на первосвятителя патриаршеских одежд гроб его был привезен на Елеоновскую гору и поставлен на том самом месте, откуда Никон с царем Алексеем Михайловичем нарекал некогда новоустроившуюся обитель Новым Иерусалимом. Когда об этом донесено было царю, начался колокольный звон и из Голгофской церкви последовал торжественный крестный ход к горе Елеонской в сопровождении царя, всего царского синклита, многочисленного духовенства и народа и при пении стиха: «Днесь благодать Св. Духа нас собра». По прибытии к месту, где стоял гроб первосвятителя, началась панихида, по окончании которой государь и митрополит своими руками подняли гроб, который потом был несен священниками и иноками, бывшими с Никоном в заточении. Царь шел за гробом и вместе с певчими с умилением пел. По перенесении усопшего в монастырь гроб был поставлен в церкви Успения Божией Матери под Голгофою, и сразу же началась литургия, на которой при пении «Приидите поклонимся» гроб почившего патриарха внесен был, по церковному обычаю тогдашнего времени, в алтарь, и Никон, уже мертвый, как бы предстоял опять пред св. престолом, от которого некогда живой, в последний раз в сане святителя, принял св. напутствие, отправляясь на суд и ожидавшее его заточение.
После литургии митрополит Корнилий с многочисленным духовенством совершил надгробное пение, на котором при всех молитвословиях усопший по повелению царя был поминаем патриархом. Сам государь читал кафизмы и Апостол и пел все последование погребения вместе со своими певчими. При последнем целовании государь извлек из-под схимы святительскую руку и со слезами лобызал ее. Его примеру последовали весь двор, духовенство и народ, которого вздохи превратились наконец в невыразимые рыдания. Потом тело почившего святителя вынесено было на священнических руках в церковь Св. Предтечи под Голгофою, к месту, где сам Никон ископал себе могилу. В нее-то теперь государь с митрополитом собственными руками опустили гроб первосвятителя при трогательном пении: «Святый Боже!» Все время совершения литургии и отпевания продолжалось 9 с половиной часов.
По окончании всех погребальных церковных обрядов царь щедро одарил бывшее при погребении духовенство деньгами и вещами, частью из келейной казны Никона, частью из собственной казны, и пробыл еще несколько дней при гробе, как бы не желая расстаться с Никоном. Редкий из первосвятителей мог удостоиться такой почести, какая оказана была Никону царем Феодором Алексеевичем, и не удивительно. «Тело Никона, – замечает жизнеописатель его и очевидец, – невредимо отнюдь от вони злосмрадныя, аще и десятодневно пребысть; в толикое время теплое ни мало повредися, но яко того часа преставися; лице и плоть его ничимже изменися, но все тело его цело, тлению непричастно бе».
Источник:https://vn-eparhia.ru/svyatiteli-novgorodskoj-zemli/150-svyatiteli-novgorodskoj-zemli-xvii-vek/946-n... Вернуться к списку